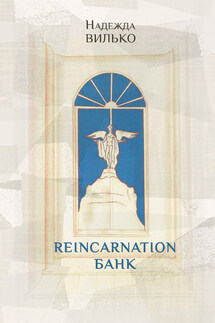Интервью с дураками - страница 18
– Просто удивительно, – вздохнул Оскар. – Жизнь на автопилоте!
Мы разговорились и провели вечер вместе. Помнится, долго беседовали о литературе.
Вот и на этот раз мы заговорили о литературе. То есть говорил в основном он; я только пожаловался на отвращение к книгам.
– Симптоматично, но не смертельно, – улыбнулся он и поставил диагноз: – Хандра. И это хорошо, что у тебя отвращение к пессимизму, – добавил он. – Это обнадеживает.
Я возразил, что, во-первых, у меня отвращение ко всему и, во-вторых, для простой хандры мое состояние что-то уж чересчур затяжное.
– Как ты относишься к Льву Толстому?
Я пожал плечами:
– С почтением.
Оскар удовлетворенно кивнул:
– И я тоже. Но, – он многозначительно поднял указательный палец, – сам он относился к себе, помоему, с опасным радикализмом.
– То есть?
– Вот шар, – задумчиво сказал мой приятель (мы играли в бильярд). – Представь, что на этом столе прорыта канавка. Шар катится по ней. Если чуть толкнуть его влево или вправо, он в нее вернется, – Оскар сосредоточенно покачал бильярдный шар. – Но сильнее толкать его, – и Оскар пихнул шар так, что тот откатился к борту, – опасно. Его просто-напросто занесет, и он… потеряется.
– Ну и… – выжидательно спросил я, видя, что он замолчал. – При чем здесь Лев Толстой?
Тут Оскар пустился в пространное жизнеописание классика. Я терпеливо ждал. И дождался.
– Его заносило, – восстановив потревоженный шар на прежнем месте, резюмировал Оскар. – Не его одного, конечно, заносило, но вчера я весь вечер спорил с одним итонским профессором и, похоже, никак не могу остановиться, всё спорю. Занятный, между прочим, старичок, – он улыбнулся, – и страстный поклонник философии Толстого. Правда, после пятого упоминания этой самой «философии» я не сдержался и тактично заметил ему, что предпочитаю Толстого-писателя Толстому-философу. Это его почему-то огорчило. Мой старичок долго качал головой и наконец изрек: «Разучилась молодежь ценить великие идеи!» Каково? Это я-то – «молодежь»?!
Посмеиваясь, Оскар прицелился и загнал «потерянный» шар в лузу.
– Я сказал ему, – полюбовавшись на свою работу, продолжал он, – что идеи-то, может, и неплохие, хоть и не новые, но уж больно радикальные. Истинный философ не революционер, а эволюционист!
Я усмехнулся:
– Ты тоже хорош изрекать.
– С кем поведешься, – пробормотал он, примериваясь к новому шару. – Нет, серьезно, – промазав, он уступил мне место, – я спросил его: если бы ради того, чтобы люди могли летать – прекрасной, бесспорно, идеи, – Господь Бог взял да и отменил бы закон гравитации? Куда бы нас тогда занесло?
– Нас, как ты сам только что сказал, и без всякой отмены гравитации заносит, – пожав плечами, заметил я.
– Вот именно, – с улыбкой подтвердил мой друг. – И тогда из жизни куда-то исчезает радость. Но, – тут он опять многозначительно поднял указательный палец, – остается надежда, что занесло нас не очень далеко.
– В моря Забвения… – прицеливаясь, пробормотал я.
– Что-что? – переспросил Оскар.
Мы просидели в баре почти до утра. Я рассказывал ему о старом Леонардо. В конце концов я пересказал ему притчу о Стеклянной Ящерице. Оскар загадочно улыбнулся и изрек:
– Да, боги всегда наказывали за высокомерие.
– Какое высокомерие? И какие боги? – спросил я.
– Всякие, – отмахнулся он. – А высокомерие… мне просто это слово нравится больше, чем гордыня. Твой мастер Луиджи всерьез полагал, что Творец нуждается в нем, как в рекламном агентстве.