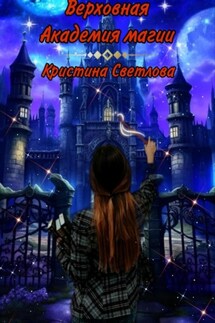Искусство неуправляемой жизни. Дальний Восток - страница 16
Русская власть: длинные структуры истории
На протяжении большей части отечественной истории, и особенно ее описания, главной проблемой России была проблема власти, ее взаимосвязь с подвластным ей социумом. Вадим Волков[23] настаивал на тесной семантической связи между словами «дано», «дань» и «подданный». «Дан» (существует) лишь тот, кто находится «под данью», является подданным. Иначе говоря, пространством, где человек наделялся статусом, выступало пространство власти. Власть, соотносимая с высшей ценностью, задавала основания аксиологической шкалы, структурировала общество, обеспечивало его «нерасчленимое единство». Для того чтобы подобная структура могла сформироваться, необходим ряд условий. Обозначим их.
Первое из них – острая потребность в единстве при невозможности «естественного» объединения. Возникновение такой потребности обычно связано с необходимостью совместных усилий для защиты от внешнего врага, в равной степени угрожающего всем потенциальным участникам объединения (Австрийская империя), или для контроля над торговыми путями (империя Тамерлана). При этом сама территория должна быть настолько гетерогенной, чтобы противиться «естественному» слиянию и не иметь явного гегемона, способного это слияние осуществить. В этой ситуации власть выступает интегрирующим каркасом, без которого общество просто рассыпается. Но для того чтобы такой каркас оказался не временной конструкцией, необходимы дополнительные условия.
Второе условие – наличие внешнего ресурса. Причем ресурса, значительно превосходящего местный ресурс. Ресурса, который власть может распределять, тем самым наделяя статусом подданного, чья способность осуществлять дальнейшее распределение зависит от объема, распределенного в его пользу ресурса. Опираясь на этот ресурс (силовой, символический или хозяйственный), власть подавляет нежелательную активность низовых социальных групп и гармонизирует социальные отношения в подходящей для себя форме.
В этом варианте самостоятельные агенты, столь необходимые европейскому государству Нового времени, хотя бы чтобы брать на откуп налоги, оказывались просто излишними, а власть заменяла собой и политику, и экономику, и любую иную область конечных значений. Она превращалась сама и превращала общество в тотальность, тем самым «объединяя его».
С агентами, осуществляющими самостоятельную хозяйственную активность, приходится договариваться. Даже в зените своей славы и мощи Карл V вынужден был считаться с Фуггерами и испанскими кортесами. Если же ресурс объединен, не зависит от индивидуальной активности агента, но контролируется властью, то агент и оказывается подданным, актором, детерминируемым системой.
Наконец, третье условие – дистанцированность власти. Чтобы легитимировать общество, власть должна быть сакральной («выведенной из зоны фамильярного контакта», говоря словами Михаила Бахтина[24]). Власть здесь существует не в обществе, но на его границе. Причем не любой границе, а границе между самим обществом и той трансценденцией, которая легитимизирует и власть, и общество. Трансценденция здесь выступает не столько в своем религиозном статусе, сколько в форме хайдеггеровского «посыла Бытия» – некой сущности, дающей позволение к существованию самого общества как такового. Власть же выступает медиатором между Бытием и посюсторонностью. Только через власть смыслы трансценденции проникают в общество, позволяя ему «продолжить быть». Тем самым трансценденция легитимизирует власть, превращая ее в инструмент по легитимизации общества. Само же общество – страдательная сущность, объект, а не субъект. С ним не договариваются – ему позволяют существовать, поскольку вне властного пространства его просто нет. То есть нечто похожее на государство в трактовке Гоббса