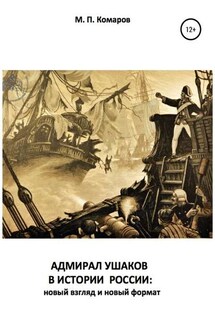Искусство уводить чужих жен (сборник) - страница 12
И я до сих пор не знаю к добру или к худу, но послушался ее раз и навсегда.
В своих воспоминаниях о Петербурге я останавливался всегда, стоило мне дойти до этого места. Наши дни представлялись мне анфиладой покоев, сквозь которые мы с Агнией провели друг друга так стремительно и жестоко. Створки дней захлопывались, и тогда в Петербурге не было решительно никакой возможности оглянуться назад. Не было, впрочем, и желания. Каждый следующий час, проведенный рядом с Агнией, был настолько превосходнее предыдущего, что этот предыдущий исчезал, таял, оставался в памяти как неуловимый миг предвкушения. Теперь мне кажется, что месяцы в Петербурге были именно предвкушением, да только я этого не понял тогда.
Но я не зря сказал о днях, которые протянулись перед нами великолепной анфиладой. В тот день, когда я послушался ее, мы на минуточку вступили в помещение, где была кромешная тьма и беззвучие. Что было бы, окажись я не столь послушен? Может быть, в темноте скрывалось начало другого пути? Может быть, мне стоило заупрямиться и заставить ее поискать это начало? Не знаю, не знаю, не знаю.
Все, что происходило между Агнией и мной, можно назвать теми же словами, что обозначают отношения любой пары любовников, но я-то подозревал в своей любимой иную сущность. Не мог я, как глупый индюк, предъявить ей в один прекрасный день ультиматум: «Или будет, как я говорю, или не будет никак!» Я не был рохлей, я просто знал: скажи я это, и она умрет.
Но кто спасется от собственного лукавства? Чем больше проходит времени, тем чаще я думаю, что не великодушие, а трусость правила мною в решительные моменты. До горячечного безумия я боялся потерять Агнию.
Итак, Агнии не было несколько дней. Наверное, это пошло на пользу службе: в ледяном бесчувствии я подтянул лейтенанта Фогеля, ввел хотя бы в какие-то рамки лизоблюдство Гейзенберга и даже умерил застарелый цинизм писарей батальонной канцелярии.
Когда пошла вторая неделя жизни без Агнии, и безумие, бродившее все время где-то неподалеку, стало заявлять о себе уже не только ночными, но и дневными видениями, пришло неожиданное спасение. В проветренном, вылизанном до канцелярской стерильности кабинете, просматривая солдатскую почту, я обнаружил конверт из Берлина, предназначенный Ранке. Буквы на конверте были выписаны от руки и так твердо, что казались вырезанными. Не берусь описать охватившее меня нетерпение. Я распорядился немедленно раздать письма солдатам и стал ждать. В это трудно поверить, но тогда мне казалось, что вот сейчас откроется дверь, и войдет Ранке, и приведет Агнию. Прошло полчаса, прошел час. Ранке не было. Я почувствовал, что схожу с ума, убрал документы в сейф, запер его и написал записку Ранке. В трех фразах там было сказано все, что он должен передать Агнии. Записку я вложил в конверт и запечатал. И тут мой водитель явился.
– Господин майор! – провозгласил он подобно шпрехшталмейстеру и подал мне уже знакомый конверт.
– Ранке, – сказал я, – не перескажете ли вы мне послание вашей бабушки?
Ранке сказал, что это невозможно и что, начав читать, я все пойму сам. Я велел ему присесть и извлек из конверта несколько листов бумаги, плотной, как кровельное железо. Я вопросительно взглянул на Ранке, и он сказал, что мне следует читать без колебаний.
«Мой Людвиг! – было написано тем же грозным почерком. – Когда я прочла твое письмо, первой моей мыслью было – мчаться в Россию и спасать бестолкового внука. Но, благодарение Богу, твоя бабушка Клара еще не лишилась разума, и этого разума хватило, чтобы понять, что тебе, бестолковому мальчишке, ничего не грозит. Видишь ли, русские ведьмы тем и отличаются от берлинских, что никому из попавших в их сети не придет в голову просить о помощи. Храни нас Бог!