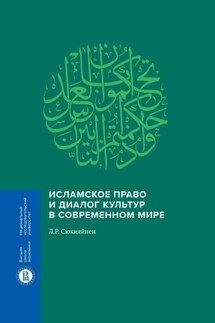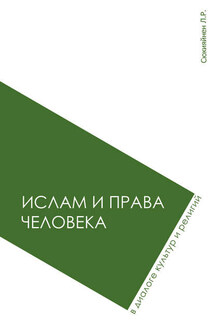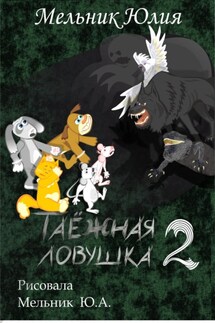Исламское право и диалог культур в современном мире - страница 28
Что же касается судебной оценки поведения людей, то она базируется на учете не просто внутреннего намерения, а именно той цели, которую преследует человек и которая может быть установлена по ряду внешних признаков. Не случайно принцип фикха, ориентированный на оценку внешнего поведения людей, говорит не о намерении, а о цели. Тем самым религиозный по сути постулат получает новое осмысление и приобретает правовой смысл[50].
Фикх достаточно четко различает религиозный взгляд на поведение человека и оценку его судом. В частности, говоря о сакральном аспекте, мусульманские правоведы ссылаются на высказывание Пророка Мухаммада: «Воистину, я всего лишь человек, а вы пришли ко мне за разрешением вашей тяжбы. Возможно, один из вас окажется красноречивее другого в представлении своих аргументов, и я сочту, что именно он говорит правду. Но если на этом основании я присужу ему право, принадлежащее другому, то оно будет сродни языку пламени адского огня. И пусть получивший чужое возьмет его [т. е. язык пламени] или оставит»[51].
Подобный подход контрастирует с тем, как на внешнее поведение человека смотрит суд. В соответствии с выводами фикха лежащие в основе того или иного поступка намерения должны приниматься во внимание лишь при условии их внешнего подтверждения, поскольку шариатский суд в своих решениях исходит из внешней стороны рассматриваемого дела. Напомним в связи с этим уже упомянутую выше исламскую максиму «я сужу по внешней стороне дела, ибо скрытый смысл поступков ведом одному Аллаху».
Различение религиозного и правового выразительно звучит также в высказывании халифа Умара бин аль-Хаттаба: «Во времена Посланника Аллаха люди держали ответ за свои дела по Откровению Всевышнего Аллаха. Но ниспослание Откровения прекратилось, и посему мы спрашиваем вас только по поступкам, которые для нас являются очевидными, а не по скрытому смыслу ваших деяний»[52]. Эту идею в законченном виде закрепляет следующий принцип фикха: «признаком, свидетельствующим о чем-либо скрытом, выступает нечто внешнее».
К таким правилам тесно примыкают принципы фикха, посвященные толкованию воли человека и ее реализации. Пожалуй, ключевые среди них два: «принятие во внимание высказывания предпочтительнее его игнорирования» и «презумпцией является принятие высказывания в буквальном значении». Подчеркнем, что фикх исходит из того, что выраженная в любой форме воля человека изначально толкуется в буквальном смысле. Здесь получает свое логическое завершение формальный подход: если, например, лицо дало обет никогда не входить в определенный дом, а затем въехало туда верхом на лошади, то фикх не считает его нарушившим взятое обязательство. Причем различные внешние формы выражения воли имеют одинаковую силу, что подтверждается принципом «письменное волеизъявление равносильно тому, что высказано устно».
Вместе с тем стремлению в максимальной степени реализовать выраженную волю отвечает иной принцип – «если принятие высказывания в буквальном значении невозможно, то оно принимается в иносказательном смысле». Например, если в завещании в качестве наследников указываются дети, которых на момент смерти лица нет, то его воля толкуется в пользу внуков, поскольку в иносказательном смысле их также принято называть детьми. И только когда воля не может быть реализована ни в одном из значений, она не учитывается – согласно принципу «если принятие высказывания в буквальном или иносказательном смысле невозможно, то оно оставляется без внимания».