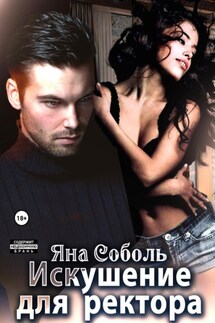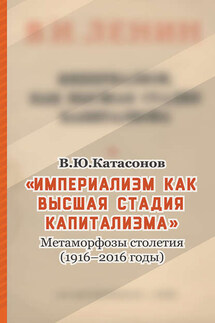Историки железного века - страница 23
Погибший в 40 лет Григорий Самойлович счастлив оказался в потомстве, в его многочисленности, жизненной стойкости. Были среди них жертвы репрессий и тем не менее в каждом поколении находились незапуганные, способные бросить вызов власть предержащим, бороться за гражданские права, за демократическую страну.
Несколько десятков внуков и правнуков и их близких, вместе с представителями истфака МГУ, собрались 15 мая 2016 г. на открытии памятной доски «Последний адрес» у дома на углу Делегатской и Садовой-Каретной, откуда их деда и прадеда забрали на муки и расстрел. Уходя, он завещал семнадцатилетней дочери, чтобы она от него не отрекалась. От Григория Самойловича не отреклись.
«Фридлянд был бешено непримирим, если касались священных для него идей и представлений в науке», – утверждала Г.И. Серебрякова в своих воспоминаниях. Во время Перестройки первое поколение историков Французской революции стали обвинять в том, что своей идеализацией якобинской диктатуры и героизацией террора они прокладывали дорогу Большому террору. Дочь Фридлянда Ида Григорьевна с непередаваемой печалью делилась со мной своими размышлениями (обсуждали «Один день Ивана Денисовича» и литературу о ГУЛаге 60-х годов): «Они разжигали огонь, в котором сгорели». Есть в этих словах горькая правда, частица той правды, что вбирает в себя все произошедшее со страной в те трагические годы.
Только частица! Нет, я имею в виду не манипулирование искренней верой в целях утверждения диктаторского режима и вящего самоутверждения вождя. Вера этого поколения в социализм, в идеалы революции, в то, что «город будет», а «саду цвесть» (В.В. Маяковский), именно она, а не воля диктатора подлинно преобразила страну «от сохи к спутнику», по известному выражению. Solo fide! Спасает только вера!
Как же истово они верили в правоту революционного дела, в торжество идей социализма! Solo fide? Только вера спасает? Не вполне. От апогея культа личности в Большом терроре она не спасла. Социализм эта вера тоже не спасла, но сплавленная с патриотизмом народной веры помогла выстоять в страшном испытании и одолеть фашизм.
В кульминационный момент сражения за Сталинград писатель-фронтовик Василий Гроссман, находясь в осажденном и почти захваченном врагом городе, говорил собеседнику, уповавшему на волю Бога, что его уверенность в конечной победе зиждется на другом – на моральном превосходстве советских людей: «Святая кровь этой войны очистила нас от крови невинно раскулаченных, от крови 37-го года»[119].
Когда пытаешься оценить научный вклад предшественников из далеких 20-х годов прошлого века, приходит на ум метафора Вольтера о движущей силе страстей: подобно ветрам, они могут рвать паруса, но без ветра корабль не смог бы двигаться. Да, они страстно выражали свои политические взгляды, не скрывали, а, напротив, декларировали свою идейную убежденность, не стеснялись называть ее «верой», поскольку она касалась принципов марксизма, непреклонности в отстаивании последних, и понятие «фанатизм» вовсе не было для историков-марксистов одиозным.
Отстаивая величие Марата, один из советских авторов называл его «бескорыстным фанатиком революции»[120]. А Фридлянд, столкнувшись в научной дискуссии с полным неприятием своей позиции, заявлял: «Я остался при своем мнении и буду его защищать с фанатизмом Марата, пока мне не докажут противное»