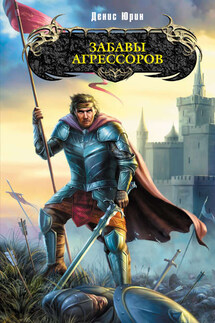История антропологических исследований в Беларуси - страница 14
В исследованиях конца XIX ст. было также показано отношение между шириной носа в его нижней части и шириной в верхней части, т. е. расстоянием между внутренними углами глаз путем определения разницы между ними. По мнению Н. А. Янчука, более широкое межглазничное расстояние придает лицу «монголоидное выражение» [615, с. 68]. Расстояние же между внутренними углами глаз обращает на себя особое внимание, когда оно значительно приближается к ширине носа или даже превосходит ее. Поэтому исследователь вычислял это соотношение для каждого обследованного. Оказалось, что разница между показателями ширины носа внизу и вверху у взрослых колебалась от +8 до –7. У 63 обследованных (53,8 %) ширина носа внизу превосходила ширину межглазничного расстояния, у 12 человек (10,3 %) оба размера были одинаковы, у 42 человек (35,9 %) ширина носа в его нижней части была меньше расстояния между внутренними углами глаз. В работе Е. Р. Эйхгольца показано, что у крестьян Рославльского уезда расстояние между внутренними углами глаз составляло 33,1 мм (минимальное значение – 26 мм, максимальное – 42 мм).
Вариабельность результатов измерений признаков, относящихся к области носа, для мужских групп разных народностей представлена нами в табл. 1.16 [154, 610, 615, 616].
По данным обследования Ю. Д. Талько-Гринцевича, большие носы встречались у 15,9 % белорусов разных губерний [523, с. 25]. Крестьяне Рославльского уезда по сравнению с белорусами Минской губернии, великорусами, малороссами и литовцами характеризовались высотой носа малого размера – 48,8 мм для северо-запада и 49,9 мм для юго-востока [610].
Таблица 1.16.Показатели высоты и ширины носа у мужчин разных народностей, обследованных в конце XIX ст.
Антропологический облик белорусов в описательных программах исследований начала XX ст. Научные статьи, которые содержали результаты антропологических исследований белорусского населения начала ХХ ст., появились в 1902 и 1906 гг. в «Русском антропологическом журнале». В них рассматривалось население трех локальных популяций, проживавшее в центральной части страны (Слуцкий уезд Минской губернии), на самом юге (Гомельский уезд Могилевской губернии) и на северо-востоке (Дисненский уезд Виленской губернии) [153, 319, 410]. В этих работах освещались вопросы происхождения разнообразных антропологических типов и предпринимались попытки связать проблемы формирования физического типа современного населения с историческими процессами. В связи с этим А. Н. Рождественским отмечалась тесная историческая связь коренного населения Слуцкого уезда с великорусами, малороссами, поляками, литовцами, а также финскими племенами, татарами и евреями [410]. Влияние исторических событий на изменение физического типа современных белорусов Гомельского уезда, которые на протяжении истории подвергались сильному влиянию поляков, литовцев и финнов, отмечал также А. А. Пионтковский [319].
Характеристика национального состава населения, проживавшего на сопредельных с Дисненским уездом территориях, была дана А. Л. Здроевским [153]. На северо-западе находились уезды, где проживали преимущественно литвины и латыши; на западе и юге-западе – уезды со смешанным белорусско-литовским населением, на севере, востоке и юге от Дисненского располагались уезды, где проживало белорусское население. Анализируя вопросы этнического состава, автор отмечал, что в городах уезда (Друя, Дисна, Глубокое) основную часть составляли белорусы, среди которых проживали евреи, цыгане-кочевники, а в селах – великорусы-старообрядцы. Возникшая еще во время проведения первых антропологических экспедиций проблема национального самоосознания и самоопределения коренных жителей уезда оставалась нерешенной и к началу ХХ ст. Причина заключалась в вековом гнете польских помещиков и католического духовенства: во время выяснения национальной принадлежности обследуемых белорусов они зачастую идентифицировали себя католиками или православными. При объяснении различий в национальностях крестьяне отвечали, что они «тутэйшыя», т. е. здешние, но никогда не говорили о том, что они белорусы [153, с. 128].