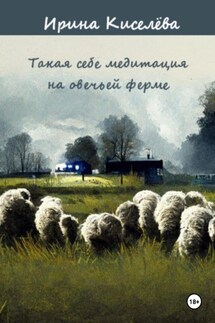История Челябинска в свете Новой Хронологии - страница 9
Фонд №429 содержит документы и другие материалы, касающиеся деятельности Исетской провинциальной канцелярии за период с 1740 по 1782 гг. Вместе с тем, из официальных исторических источников известно, что Исетская провинция была учреждена указом императрицы Анны Иоанновны от 13 августа 1737 года (дата, на мой взгляд, спорная, но об этом чуть позже), однако документы за период 1737—1740 гг. в данном хранилище почему-то отсутствуют. Возможно, часть из них сохранилась в указанном выше деле, найденном в с. Миасском в 1937 году (ОГАЧО, Ф. И-63. Оп. 1. Д. 1), но это, по сути, ничего не дает для уверенного ответа на данный вопрос.
Не исключено, что часть архивных материалов Исетской провинции за указанный период может находиться в составе т. н. «портфелей Миллера», который именно в эти годы вёл бурную деятельность по инспекции сибирских архивов, тем более, что описи «портфелей» содержат прямые упоминания об этих документах, если они вообще сохранились к настоящему времени (см. выше). Вместе с тем, ни в одном из научных исследований по истории г. Челябинска я не встречал ссылок на «портфели Миллера», традиционные историки почему-то предпочитают обходить их стороной. Кроме этого, внимательный анализ данной описи показывает, что основной массив документов о деятельности Исетской провинциальной канцелярии относится к периоду 1770 – 1782 гг., 1740 – 1770 гг. представлены в ней фрагментарно. Таким образом, первоначальный отрезок истории г. Челябинска (1736 – 1770 гг.) по каким-то неведомым причинам оказался очень слабо освещен архивными источниками. На вопрос, с чем это связано, мы попробуем ответить несколько позже.
Обращает на себя внимание одновременное употребление в официальных документах внешне схожих, но всё-таки разных названий для, казалось бы, одного и того же населенного пункта. Причём, вариаций фиксируется даже не две, а как минимум три – город Челяба, город Челябинск, Челябинская крепость (в старообрядческой литературе 19 в. мне попадался вариант – Селябская крепость). Употребление «заменителей» городских топонимов в обыденной речи (в просторечье) традиционно для нашей культуры: Санкт-Петербург – Питер, Екатеринбург – Ёбург, Екат, да, собственно, и тот же Челябинск – Челяба, но, согласимся, что для официальной (правительственной) документации и переписки это, прямо скажем, необычно. Всё-таки, логично предположить, что нормативная база (законы, указы, инструкции и пр.) любого государства должна стремиться к единообразию и точности в определении терминов, названий и пр., во избежание путаницы, двойного толкования, что создаёт почву для злоупотреблений со стороны ответственных должностных лиц, а также влечёт других негативные последствия. В конце концов, это попросту затрудняет процесс административного регулирования для центральных и местных органов власти. Возможно, данный феномен по каким-то причинам характерен именно для г. Челябинска, по крайней мере другие, аналогичные случаи в истории мне неизвестны. В то же время, правовые статусы города и крепости тоже имели существенные отличия, влекущие соответствующие последствия для конкретного населённого пункта: состав и количество населения, степень подчинённости и принадлежность вышестоящим управленческим структурам, порядок формирования органов местного управления, уровень финансирования из казны и пр., и эти факторы, несомненно, должны был отразиться в официальной документации. Характерно то, что после приобретения Челябинском городского статуса (в рамках официальной версии истории), эти изменения сразу становятся заметными именно по указанным выше маркёрам: трансформируется состав органов городского самоуправления, появляются новые городские сословия, постепенно исчезают старые и т д. Но, несмотря на это, Челябинск продолжает именоваться в официальном дискурсе и городом, и крепостью. С учётом изложенного, складывается такое ощущение, что речь идёт о разных объектах, и это ощущение будет усиливаться по мере продвижения нашего исследования.