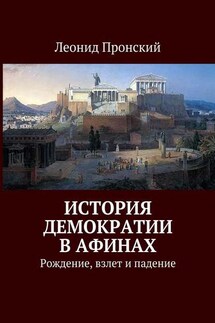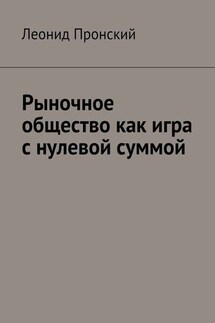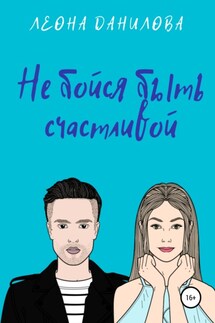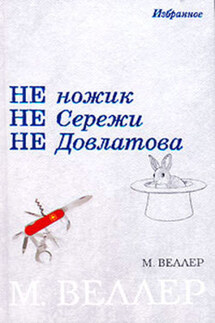История демократии в Афинах. Рождение, взлет и падение - страница 4
При этом надо полагать, что таких людей в Аттике было уже некоторое множество и до призыва Тезея. Не он впервые принял их в свое царство, но, найдя их уже в наличии на своей земле и убедившись в их полезности для страны, Тезей и бросил свой знаменитый клич, желая дальнейшего притока в страну новых полезных людей. Сам воспитанный не в Аттике и бывший в стране Эгея тоже пришельцем (из Трезены в Арголиде, где жили его мать и дед), Тезей, видимо, во многом был уже лишен архаических родовых предрассудков. Более того, вероятнее всего, он вообще не был родным сыном Эгея, а вся история о его происхождении является легендой, сочиненной задним числом для придания легитимности его воцарению в Афинах. Скорее всего, бездетный Эгей (сам бывший приемным сыном Пандиона) просто усыновил Тезея и сочинил затем для своих простодушных сородичей красивую сказку о его зачатии во время пребывания в Трезене. В таком случае Тезей вообще должен был сочувствовать всем безродным, поскольку на собственном примере видел, что полезность человека для страны не зависит от его происхождения.
Но призванные им люди, стоявшие вне сложившейся в Аттике родовой организации, нуждались в каком-то покровительстве со стороны государства. Поэтому Тезей должен был принять какие-то установления, защищавшие этих пришлых от автохтонов, естественно, бывших недовольными «понаехавшими тут». В этом-то, видимо, и состояла демократическая сторона реформ Тезея. Он как-то уравнял коренных жителей Аттики – автохтонных геннетов – с пришлыми (в том числе и призванными им лично). Тем самым он положил начало раннему ослаблению в Аттике порядков (и предрассудков) родового строя. Из дальнейшей истории Афин хорошо видно, что именно этим – ускоренным освобождением от родовых предрассудков и повышенной терпимостью к переселенцам – отличалось это государство от всех окружавших его греческих полисов6 и, в особенности, от его исконного соперника – аристократической Спарты (Лакедемона), отличавшейся, наоборот, крайним консерватизмом родовых порядков и нетерпимостью к чужакам.
Конечно, в Аттику того времени переселялись извне не только разрозненные массы людей, утративших связь со своими родовыми коллективами, но и целые сплоченные роды во главе со своими басилевсами. Таким организованным переселенцам там, видимо, предоставляли землю и равные права с автохтонными родами Аттики. Наиболее известным примером здесь может служить знаменитый род Алкмеонидов, организованно переселившийся в Аттику с Пелопоннеса под давлением дорийцев и получивший на новой родине родовые земли. Но Алкмеониды, как отмечают древние источники, имели в Аттике лишь сравнительно небольшое количество земель (и не лучшего качества). Несмотря на свою знатность и древность (они возводили свое происхождение к знаменитому Нестору, прославленному в Илиаде Гомера), этот род всегда оставался в Аттике относительно небогатым землей, хотя и сильно разбогател впоследствии за счет других источников (если верить Геродоту, – золотом лидийского царя Креза).
Но основная масса переселенцев была, видимо, все-таки разрозненной массой, утратившей связь со своими родами. В Риме такие люди назывались плебеями, а в Греции они так и не получили какого-то общего названия. Произошло это, видимо, потому, что во многих греческих полисах именно пришлые (завоеватели), а не покоренные ими автохтоны стали привилегированным сословием. Так было, в частности, в Лакедемоне, где пришедшие с Севера дорийцы захватили господство над автохтонным ахейским населением, которое стало там называться «периэками» (буквально: «живущие около», сожители). Периэки в Спарте, в отличие от полностью порабощенных илотов (бывших, возможно, не греками, а пеласгами) были лично свободными, но лишенными политических прав. Однако в Аттике (и некоторых других полисах) лишенными политических прав оказались именно пришлые, а не автохтоны.