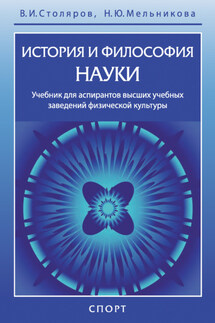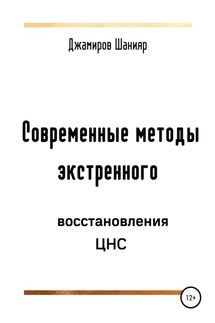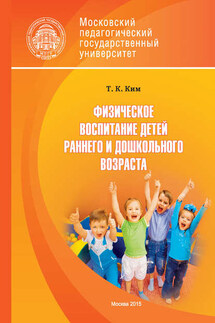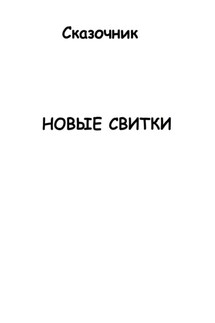История и философия науки - страница 14
Тот факт, что «забывание» не недостаток, а наоборот, преимущество нашей психики, свидетельствующее о наличии специально осуществляющего его «механизма», наглядно продемонстрировал психолог А. Н. Леонтьев на сеансе с С. В. Шерешевским, который обладал «абсолютной» памятью. С одинаковым успехом он запоминал формулы, слова, бессмысленные слоги, которые мог воспроизвести через любой промежуток времени. С одного раза он мог воспроизвести в любом порядке и спустя любое время список в сто, двести, тысячу слов. После одной из демонстрации этой способности Шерешевскому был задан такой вопрос: «Не припомнит ли он среди отпечатавшихся в его памяти слов одно, а именно: название острозаразной болезни из трех букв?». Наступила заминка. Тогда экспериментатор обратился за помощью к залу. И тут оказалось, что десятки людей с «нормальной» памятью помнят то, что не может вспомнить человек с «абсолютной памятью». В списке было слово «тиф», и многие люди совершенно непроизвольно зафиксировали это слово[11]. Как отмечает Э. В. Ильенков, «нормальная» память «спрятала» это слово в кладовую мозга «про запас», равно как и все остальные девятьсот девяносто девять словечек. Но тем самым высшие отделы коры, ведающие мышлением, получили возможность для своей специальной работы, в том числе для целенаправленного «воспоминания» по путям логической связи. «Мозгу же с абсолютной памятью работать оказалось так же трудно, как желудку, битком набитому камнями».
Поэтому понятен тот вред, который мышлению наносит «зубрежка». Ведь она калечит «естественный» механизм мозга, который охраняет высшие отделы коры от наводнения хаотической массой бессвязной информации. Мозг насильственно принуждают «запоминать» все то, что он активно старается забыть, запереть под замок, чтобы оно не мешало мыслить. Мозг человека изо всех сил сопротивляется такому пичканью непереваренной информацией, старается погрузить ее в низшие отделы коры, забыть, а его снова и снова дрессируют повторением, принуждают, сламывают, пользуясь разными средствами. И в конце концов своего добиваются. Но какой ценой: ценой способности мыслить. Хорошо еще, пишет Э. В. Ильенков, если воспитуемый не очень всерьез относится к зазубриваемой им ненужной «премудрости», если он просто «отбывает номер». Тогда его не удается искалечить до конца. «Безнадежные же тупицы вырастают нередко как раз из самых послушных и прилежных «зубрил», подтверждая тем самым, что и «послушание» и «прилежание» – такие же диалектически коварные достоинства, как и все прочие «абсолюты», в известной точке и при известных условиях превращающиеся в свою противоположность, в недостатки, в том числе непоправимые»[12].
К зубрежке, подкрепляемой повторением, многие особенно часто прибегают в тех случаях, когда сталкиваются с такими положениями, которые представляются совершенно очевидными. Действительно, если человек сталкивается с проблемой, которую он считает сложной, это побуждает его задуматься, «пошевелить мозгами», определить различные варианты ее решения, оценить их и т. д. А если какое-то положение (например, «2×2=4») представляется человеку очевидным, он считает целесообразным просто запомнить данное положение, не утруждая себя какими-то размышлениями над ним.
Такая позиция, справедливая в некоторых случаях (например, при изучении иностранного языка действительно требуется постоянно включать прежде всего память), как правило, непригодна в науке. Именно это, по-видимому, имел в виду немецкий писатель Б. Брехт, когда писал, что «человек, для которого то, что дважды два четыре, само собой разумеется, никогда не станет великим математиком». Действительно, разве не всегда при сложении 2 и 2 в сумме получается 4? Нет, не всегда.