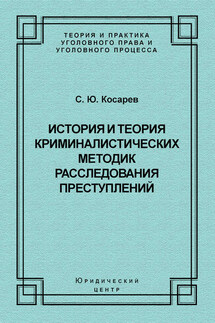История и теория криминалистических методик расследования преступлений - страница 12
Итак, инквизиционный процесс главным образом характеризуется такими признаками, как совмещение функций предварительного расследования и отправления правосудия, резкий дисбаланс обвинения и защиты, приоритет мер процессуального принуждения перед средствами убеждения.
На Руси ордалии исчезают к XIII–XIV вв.; «жребий», обращение к «полю» допускались лишь в том случае, если не было возможности иначе разрешить тяжбу.
Если ранее носителями судебной власти были в основном удельные князья и их слуги, то в период с XIV–XV вв. и до XVII в.
судебная власть постепенно сосредоточилась в руках крепнущего Московского государства.
В шкале доказательств «поле» стало занимать последнее место. На первое же место стали выходить письменные акты (грамоты), далее следуют свидетели, за ними присяга, и, наконец, «поле»[56].
Таким образом, по мере упадка «судов Божьих» повысилась роль свидетелей, усилилось значение судебной канцелярии, дьяков и подьячих, ставших истинными вершителями дел в суде.
Рост степени государственной централизации, усиление роли великокняжеской (царской) администрации в сфере управления, выделение особых органов государственной власти, постепенно монополизировавших публично-правовые функции, привели к появлению новых форм осуществления правосудия в противоположность прежним формам. Древнерусское исковое обвинительно-состязательное судопроизводство, в котором главная роль принадлежала сторонам, постепенно все более проникалось «розыскными» (инквизиционными) началами.
В соответствии с Судебником 1497 г. (ст. 8, 12, 13) Ивана III виновность оговоренного подтверждалась не представлением доказательств, а крестным целованием (присягой) оговаривающих.
Все более разрасталось письмоводство, запись различных «речей» (показаний) и т. д. Появились судные списки и правые грамоты, выдававшиеся на руки сторонам по их требованию, представлявшие по своему содержанию не что иное, как подробные протоколы всего судопроизводства.
Так, к XVI в. в Московском государстве имелись два вида судебного процесса – «суд» и «розыск», т. е. процесс обвинительный и процесс следственный (инквизиционный), причем первый еще преобладал в XVI в., второй же стал преобладать в XVII в.
Уже согласно Судебнику 1497 г. дела могли начинаться вследствие «довода», т. е. обвинения, производимого специальными должностными лицами – «доводчиками», которые состояли в штате наместников и выполняли обязанности судебных следователей[57].
До наших дней в пяти рукописных свитках дошел интереснейший документ первой половины XVI в., представляющий собой запись обстоятельств расследования убийства Степана Пронякина, происшедшего в 1538 г. в Медынском уезде (современная Калужская область. – С. К.), – первое известное нам достаточно подробное изложение хода расследования по конкретному уголовному делу в нашем Отечестве.
Расследование осуществлялось в период с 9 сентября 1538 г. по 28 февраля 1539 г.
Жена убитого Катерина с сыном Иваном Пронякиным и неким Борисом Сибекиным обратились к наместнику Медынского уезда с иском против Федора Неелова, его жены Марьи, их сына Ждана и их работника Федьки, которые, со слов обвинителей, ворвавшись во двор потерпевших, избили саблями до смерти Степана Пронякина и похитили различное имущество на общую сумму пять с четвертью рублей.
На крики потерпевших сбежались соседские люди, которые отправились на поиск преступников.