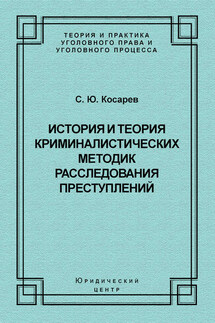История и теория криминалистических методик расследования преступлений - страница 6
В древности, вероятно, судопроизводство было сопряжено с религиозными обрядами: жертвами, жребиями и присягами. Суд и расправа чинились на народных собраниях (вечах)[26].
Все отношения между первобытными людьми, в том числе случавшиеся распри, разбирались в соответствии с чувствами и представлениями о справедливом и несправедливом. Мерилом доказанности совершения опасного деяния была его очевидность, главным образом, в глазах потерпевшего. Обиженный человек был сам судьей и исполнителем приговора. При такой патриархальной форме суда основными средствами правосудия были месть и расправа, чинимые одними представителями общества над другими с одобрения всех членов племени или его старейшин[27].
Право мести составляет весь запас положительных законов для первобытного человека[28].
Впрочем, месть как средство удовлетворения за совершенное преступление намного пережила эпоху первобытной дикости. В нашей истории классическим примером кровавой родовой мести является месть Ольги древлянам за убийство мужа, киевского князя Игоря (X в.).
Образование государственности у разных народов, сопровождавшееся разложением первобытных, родоплеменных, кровнородственных отношений, потребовало создания источников права, облаченных в письменную форму.
Возникнув вместе с государством, уголовная юстиция сразу же была вынуждена решать проблему путей, ведущих к установлению истины в правосудии. Уже в священных книгах иудеев, христиан, мусульман – Торе (Пятикнижии), Библии, Коране – можно встретить описание приемов открытия такой истины: допроса, обыска, опознания и др. Они упоминаются и в памятниках древнего права Рима, Греции, Руси, Германии, Китая и иных стран. Это были чисто эмпирические рекомендации и установления, основанные на житейском опыте и используемые в рамках существовавших процессуальных процедур обычного или писаного права[29].
Так появляются способы и средства осуществления раскрытия преступлений. Например, в древнеиндийском сборнике законов Ману, относящемся к V в. до н. э., встречаются довольно подробные правила допроса свидетелей, излагаются причины, по которым тот или иной свидетель не допускается к свидетельству, излагаются советы судьям для ведения дела, приводятся даже советы о том, как при помощи внешних признаков определять происходящее в душе свидетеля; в XII таблицах – памятнике древнеримского права (V в. до н. э.) – встречаются упоминания о производстве обысков.
До нашего времени в виде папирусных свитков дошли многочисленные полицейские и судебные акты Древнего Египта периода власти Птоломеев и римлян с подробными описаниями внешних признаков преступников того времени.
В этой связи немецкий криминалист Р. Гейндль не без удивления замечает, что техника описания примет человека у египтян была разработана с точностью не меньшей, чем у Бертильона[30].
Постепенно человеческое общество перешло от родоплеменных «правовых» отношений, от патриархальных форм суда к судебному порядку установления истины в делах, возникающих по поводу совершенного преступления, или уголовных делах.
Так образовалась первоначальная форма судебной процедуры («обвинительное производство»), при которой разбирательство по делу о совершенном преступлении начиналось с заявления жалобщиком (истцом) своей претензии (иска). Основными доказательствами при «обвинительном производстве» были свидетельские показания. Обеспечение обнаружения судебной истины устанавливалось определенными способами ее выяснения. Основой доброкачественного доказательственного материала считалась очистительная присяга, зачастую дополняемая приведением к присяге соприсяжников. Впрочем, часто процесс установления истины сводился к «суду Божьему» – ордалиям (физическим испытаниям огнем, водой, железом и т. п.)