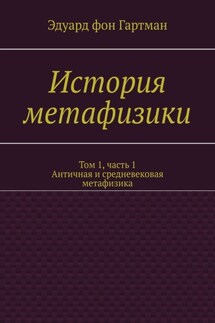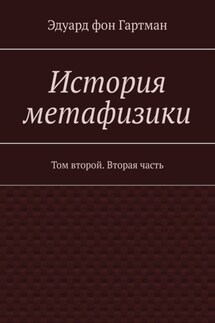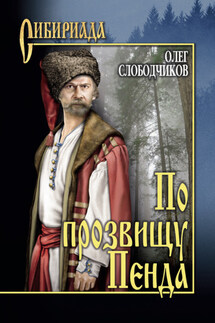История метафизики. Том второй Первая часть - страница 29
II. Пантеизм
1. И. Г. Фихте (1762—1814)
Фихте, как и Бек, исходит из понятия деятельности, действия или действия мысли. В первый период его творчества это понятие рассматривается как предельное первичное понятие, за пределы которого невозможно выйти; все бытие предполагается лишь бытием, постулируемым деятельностью, а субстанция – лишь пространственно-чувственным бытием. Однако во второй период он понимает, что деятельность как таковая также есть нечто существующее или бытие, которое как таковое предшествует бытию, позиционируемому ею, а также знанию, возникающему из деятельности. Читая Спинозу, он даже находит, что деятельность соответствует спинозистскому определению субстанции, а именно: как несотворенное бытие она не нуждается ни в чем другом, существует через, из и сама по себе, и поэтому также называет ее абсолютной субстанцией. Таким образом, у него есть два вида бытия: бытие деятельности или абсолютное бытие, которое предшествует знанию, и бытие, которое устанавливается, фиксируется, закрепляется деятельностью, которое является бытием только в знании и для знания. Однако деятельность сама по себе есть просто деятельность; то, что она такова, должно быть атрибутом мысли лишь постольку, поскольку философ не может избежать приписывания ей бытия. Сама по себе деятельность – это такое же малое бытие, как и сознание; она есть бытие только как мысль или в форме бытия мысли. Это ограничение связано с тем, что Фихте не хочет принимать бытие, которое не было бы бытием для мышления, т. е. он наделяет бытием немыслящий абсолют только по милости философского мышления. В любом случае, это бытие деятельности – нечто предшествующее знанию, нечто вне знания, возникающее из деятельности, или не-знание, т.е. изначально бессознательное бытие.
Это расхождение второго периода с первым не касается ни вещи, ни выражения, поскольку если в первом периоде обозначение бытия используется однозначно для реальности, зафиксированной в знании, то во втором оно используется двусмысленно как для нее, так и для самой первичной деятельности. Более того, во втором периоде есть и фактическое отклонение, поскольку оно не останавливается на деятельности как чисто активном бытии, а возвращается за ней к способности или возможности самой деятельности. Как деятельность есть возможность познания и фиксированного бытия, так должно быть понято нечто, что есть возможность деятельности или чистого бытия. Деятельность – это существование факультета, но как деятельность она является внешней по отношению к чистому факультету, поскольку она есть лишь его следствие. Иногда кажется, что внешняя по отношению к факультету деятельность также имеет необходимость, что она побуждается к деятельности идеальным побуждением морального миропорядка; но преобладает противоположный взгляд. Согласно этому взгляду, деятельность – это свобода, которая абсолютно свободна, свобода, которая определила себя быть и знать; но с таким же успехом она могла бы определить себя не быть и не знать. За позитивно актуализированной свободой, следовательно, должна оставаться формальная свобода, которая еще не определилась между бытием и небытием или безразличием того и другого. Только это было бы чистой возможностью бытия (и небытия), чистой способностью быть. Неподвижное или объективное бытие, чистое актус-бытие или первобытие, и чистая способность или чистая возможность бытия или чистое бытие-способность бытия ведут себя у Фихте точно так же, как ипостась, энергия и динамис у Плотина, хотя Фихте ничего не знал об этом соответствии. Позднее учение Шеллинга о принципах также отчасти предвосхищено аллюзиями Фихте.