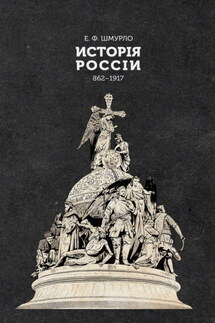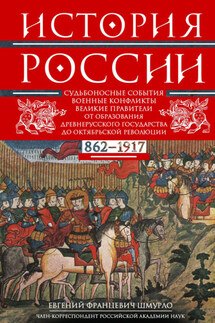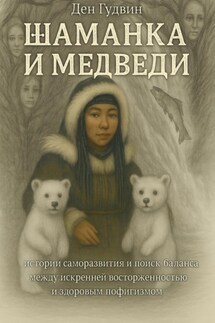Исторія Россіи. 862—1917 - страница 33
б) Ослабла родовая связь между князьями. Тѣ духовныя силы, что скрѣпляли князей если не въ одну семью, то въ одинъ родственный союзъ, сильно теперь пошатнулись. Полновластный хозяинъ, неограниченный властелинъ у себя дома, въ своихъ новыхъ городахъ, суздальскій князь такимъ же держалъ себя и въ сношеніяхъ съ сородичами. Они для него не младшіе братья, а подчинённые; ими онъ считаетъ себя вправѣ распоряжаться по произволу. «Хотѣлъ онъ быть самовластцемъ», – говоритъ про Андрея лѣтописецъ. Когда Ростиславичи Смоленскіе, его племянники, посаженные имъ въ Кіевскую землю, не исполнили его волю, Андрей Боголюбскій не задумался приказать имъ уходить обратно въ Смоленскъ, а двоихъ даже совсѣмъ хотѣлъ изгнать изъ Русской земли. «Мы до сихъ поръ почитали тебя какъ отца по любви», – отвѣчали Ростиславичи, – «но если ты прислалъ къ намъ съ такими рѣчами, не какъ къ князю, но какъ къ подручнику и простому человѣку, то дѣлай, что замыслилъ, а Богъ насъ разсудитъ». Слово подручникъ красочно опредѣлило сущность произошедшей перемѣны: «Южные князья поняли перемѣну въ обхожденіи съ ними сѣвернаго самовластца; поняли, что онъ хочетъ прежнія родственныя отношенія старшаго къ младшимъ замѣнить новыми, подручническими, не хочетъ болѣе довольствоваться только тѣмъ, чтобъ младшіе имѣли его какъ отца по любви, но хочетъ, чтобъ они безусловно исполняли его приказанія, какъ подданные» (Соловьёвъ).
в) Образовались вотчины-удѣлы. Завоевавъ Кіевъ, а самъ оставшись на прежнемъ мѣстѣ, у себя во Владимірѣ, Андрей въ корнѣ подсѣкъ старый порядокъ перехода столовъ согласно т. наз. «родовой лѣствицы». На Югѣ этотъ порядокъ ещё держится нѣкоторое время, но въ Суздальской области ему не стало болѣе мѣста. Территорія распадается здѣсь на отдѣльныя княжества, одно отъ другого независимыя; каждое изъ нихъ превращается въ личное достояніе князя, становится его вотчиною, т. е. частною собственностію, которая переходитъ отъ отца къ сыну, какъ отцовское наслѣдіе.
Раньше – наслѣдовали братъ послѣ брата, племянникъ послѣ дяди, причёмъ ни одинъ князь не могъ сказать: «это моя земля, я располагаю ею, какъ хочу»: князь былъ только временнымъ, не всегда даже пожизненнымъ ея владѣльцемъ и правителемъ. Теперь – это частная собственность князя, который передаётъ, кому захочетъ, брату или сыну, даже женѣ или дочери.
Двѣ собственности, два хозяйства – это два міра, два отдѣльныхъ замкнутыхъ круга, и сколько возникло хозяйствъ, столько же образовалось и обособленныхъ отдѣльныхъ круговъ-міровъ, иными словами – удѣловъ. Такихъ удѣловъ на Югѣ не могло быть, потому что тамъ не было «хозяйствъ», княжества не составляли тамъ частной собственности, у княжескаго рода тамъ всё было общее, всѣ были дѣти одного отца, внуки одного дѣда. «Мы не венгры и не ляхи, но потомки одного предка, и отказаться отъ Кіева не можемъ», – говорятъ Ольговичи Мономаховичамъ. Любое княжество, будь это крупное: Кіевское, Черниговское – или мелкое: Туровское, Торопецкое, – всё равно понималось какъ часть одного цѣлаго, связанная съ другою частью узами кровнаго родства.
Вотъ почему удѣльный періодъ начинается на Сѣверѣ, со времени Всеволода III, не раньше; къ періоду Кіевскому выраженіе это неприложимо. Лѣтопись наша вовсе не знаетъ слова удѣлъ; впервые выраженіе это встрѣчается въ половинѣ XIV в. (договоръ сыновей Ивана Калиты). На Югѣ сѣверному «удѣлу» соотвѣтствовали иныя выраженія: столъ, волость: такой-то князь сѣлъ на столѣ отца своего; такого-то князя лишили его волости.