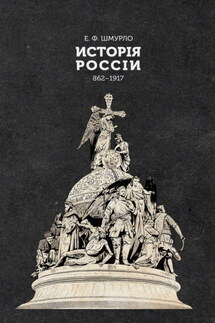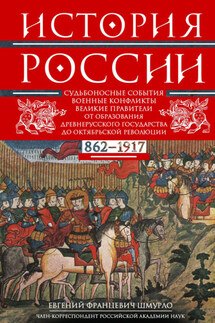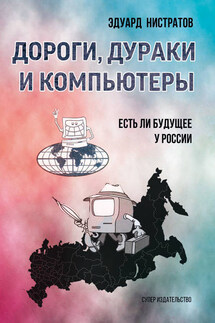История России. Судьбоносные события, военные конфликты, великие правители от образования Древнерусского государства до Октябрьской революции. 862–1917 годы - страница 5
Другая особенность Русской равнины: деление ее на две полосы, на Поле и Лес, на черноземно-степную и звероловную; одна – для пахаря и скотовода, другая – для охотника, пчеловода, промышленника. Граница между этими полосами шла с юго-запада на северо-восток, от устьев Десны до устьев Оки по линии Киев – Нижний Новгород.
Судьба и здесь оказалась мачехой для русского человека: черноземный, степной юг лежал в районе набегов азиатских кочевников. «Южный земледелец должен был жить всегда наготове для встречи врага, для зашиты своего пахотного поля и своей родной земли. Важнейшее зло для оседлой жизни заключалось именно в том, что никак нельзя было прочертить сколько-нибудь точную и безопасную границу от соседей-степняков. Эта граница ежеминутно перекатывалась с места на место, как та степная растительность, которую так и называют перекати-полем. Нынче пришел кочевник и подогнал свои стада или раскинул свои палатки под самый край пахотной нивы; завтра люди, собравшись с силами, прогнали его или дарами и обещаниями давать подать удовлетворили его жадности. Но кто мог ручаться, что послезавтра он снова не придет и снова не раскинет свои палатки у самых земледельческих хат? Поле, как и море – везде дорога, и невозможно на нем положить границ, особенно таких, которые защищали бы, так сказать, сами себя. Жизнь в чистом поле, подвергаясь всегдашней опасности, была похожа на азартную игру».
В лесной стороне нет степного раздолья, зато жизнь безопаснее и работа домостроительства устойчивее и вернее. «Лес, по самой своей природе, не допускал деятельности слишком отважной или вспыльчивой. Он требовал ежеминутного размышления, внимательного соображения и точного взвешивания всех встречных обстоятельств. В лесу главнее всего требовалась широкая осмотрительность. От этого у лесного человека развивается совсем другой характер жизни и поведения, во многом противоположный характеру коренного полянина. Правилом лесной жизни было – десять раз примерь и один раз отрежь. Правило полевой жизни заключалось в словах: либо пан, либо пропал. Полевая жизнь требовала простора действий; она прямо вызывала на удаль, на удачу, прямо бросала человека во все роды опасностей, развивала в нем беззаветную отвагу и прыткость жизни. Но за это самое она же делала из него игралище всяких случайностей. Вообще можно сказать, что лесная жизнь воспитывала осторожного промышленного политического хозяина, между тем как полевая жизнь создавала удалого воина и богатыря, беззаботного к устройству политического хозяйства» (Забелин).
Полевой юг приучил к казакованью, лесной север, наоборот, к сидению на месте, к общественности: выжечь ли лес, выкорчевать ли пни, вспахать поле – все легче с помощью другого, чем одному; оттого здесь больше, чем на юге, дорожили общественной жизнью и крепче держались ее; оттого и государственная жизнь установилась здесь прочнее, чем на юге.
Позже, когда на юге стало невыносимо от кочевников, население Приднепровья направилось на северо-восток, в лесную полосу и, колонизовав ее, положило начало великорусской народности. Таким образом, Поле и Лес наложили свой отпечаток на два разветвления русского народа: на малороссов и великорусов.
На Западе политические границы государства для каждого были очерчены, можно сказать, с первых же дней их существования и оставались в пределах данной народности почти без изменений. Совершались завоевания; чужие области силой оружия присоединялись, но именно потому, что они были чужие, населены другим народом, обыкновенно отпадали и воссоединялись с теми политическими организациями, от которых были насильно отторгнуты. Границы нынешней Англии, Франции, Испании, Италии или Швеции, Норвегии почти те же самые, какими они были при возникновении этих государств. Столетняя война в Средние века между Францией и Англией вернула последнюю в ее естественные границы. Итальянские походы французских королей в Италию в конце XV и в начале XVI в. окончились неудачно, главным образом потому, что выводили Францию за пределы ее естественных границ. Владычество Испании в Сицилии и Милане было непрочно по тем же причинам. Сравним еще: недолговечность шведского владычества в Северной Германии, австрийского на Апеннинском полуострове, испанского в Нидерландах. Одна только германская народность раздвинула свои границы и, продвинувшись за Эльбу, в восточном направлении (немецкий Drang nach Osten), колонизовала (германизировала) новые земли (славянские), превратив их в немецкие. Колонии, как мы их понимаем теперь, стали возникать лишь в Новые века: это всегда земли за пределами государства, обычно в странах неевропейских, особый мир, резко отграниченный от своей метрополии.