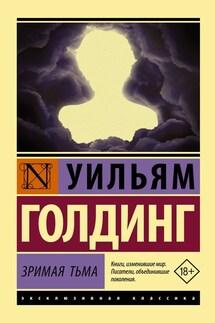История русского раскола старообрядчества - страница 2
2) Просветив Русь христианскою верою, греки обратили внимание на умственное просвещение русских и пытались ввести образование научное; о том же заботилось и правительство. Но русские, по своей неразвитости, не видели в таком образовании никакой пользы, а потому оно и не привилось. Все дело образования было сведено на одну грамотность и начитанность. Со времени татарского нашествия просвещение на Руси не улучшилось, а ухудшилось, потому что не стало ни книг, ни учителей. Прежние учителя-греки, испугавшись татарского погрома, бежали из России, а на западноевропейцев наши предки смотрели, как на еретиков. Приходилось ограничиваться собственными образовательными средствами; но эти средства были недостаточны. Существовавшие при некоторых церквах, монастырях и в домах частных лиц школы не были правильно организованы, и в них обучали только грамоте и богослужебной практике. Учителями в них были духовные и светские лица; последние назывались мастерами и, при обучении детей, большею частью преследовали корыстные цели. По свидетельству Стоглава, эти мастера грамоте часто сами мало умели, а силы писания совсем не разумели, и потому могли научить своих учеников немногому. Новгородский архиепископ Геннадий (1495–1511 г.) в своем послании к митр. Симону также свидетельствует: «Мужики-невежи учат ребят грамоте и только речь им портят… а отойдет (ученик) от мастера – ничего не умеет, едва только по книге бредет, о церковном же порядке понятия не имеет». Ко времени Стоглавого собора количество и этих школ значительно убавилось: почти совсем негде было учиться (Стогл. гл. 25). Не увеличилось количество школ и после Стоглавого собора, как об этом свидетельствуют иностранцы. «Во всей Московии, говорит один из них, нет школ и других способов к изучению наук, кроме того, чему можно научиться в монастырях» (Кобенцель). Но и монастырские школы в это время были в упадке. Одни священники, да и то немногие, обучали детей чтению и письму.
Дальнейшее образование происходило под руководством церковной письменности, состоявшей, большею частью, из переводных сочинений, помещенных в разного рода сборниках – законодательных, учительных, библейских и т. п. Чтение подобных сборников, конечно, несколько развивало наших предков, но лишь в одном направлении, так как самые сборники трактовали, главным образом, о том, как угодить Богу и наследовать царство небесное, при чем все дело спасения сводилось к требованиям внешней набожности. В большом употреблении были затем апокрифические произведения, но они более противодействовали, чем содействовали умственному просвещению.
При таких образовательных средствах не удивительно, что в обществе распространилось мнение, что не дело мирян «чести книги»; сами мастера (учителя) говорили: «грех простым (мирянам) чести Апостол и Евангелие» и своих любознательных учеников отговаривали от чтения, говоря, что от чтения можно сойти с ума и впасть в ересь. Равным образом вполне естественно было свести всю сущность религии на одну внешнюю набожность, которая мало по малу превратилась в мертвообрядовое направление.
В XVI в. это направление достигло крайней степени. В литературных произведениях того времени можно нередко встретить подробные правила относительно часов для молитвы, количества поклонов и молитв при чтении кафизм, качества пищи, вкушаемой в те или другие постные дни, и т. п. Внешней, механической молитве придавалось значение действительной молитвы, независимо от внутреннего расположения. Действенность молитвы нередко измеряли часами; поэтому говорили, что прийти к церковному богослужению после чтения Евангелия – тоже самое, что совсем не ходить в церковь. Многие думали, что для соблюдения поста достаточно только не вкушать мясных и рыбных блюд и т. п. Такое направление русского народа с особенною ясностью выразилось в постановлениях Стоглавого собора (Стоглаве): сугубая аллилуиа, двуперстие и небритие бороды и усов рассматриваются здесь, как догматы веры, и неприкосновенность их ограждена анафемой (гл. 31:40, 42).