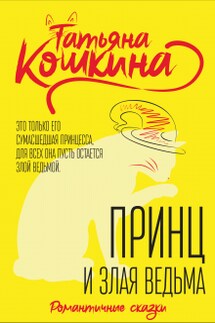История схоластического метода. Второй том: По печатным и непечатным источникам - страница 48
Ближе к концу своего труда «De Trinitate et operibus eius», в своей трактовке «donum scientiae», он подробно излагает свой взгляд на отношения между профанными областями знания, особенно диалектикой, и теологией. Руперт фон Дойц видит все благородство, все достоинство семи свободных искусств в том, что они предоставляют себя в распоряжение sapientia, теологии, как ее хозяйки239. В отдельных главах он признает услуги, которые каждая из этих дисциплин может оказать науке веры240. Что касается диалектики, то он подчеркивает, что род и различие, вид, свойство и случайность, то есть все предикаты, которые мирские мудрецы считают чем-то великим и сложным, играют роль и в Священном Писании, особенно в рассказе о творении, и что в Библии роды, виды и видовые различия классифицированы лучше, чем даже у Порфирия241. Польза и огромное значение, поясняется далее, заключаются в силлогизмах, которые являются столь ценными помощниками для разделения истины и заблуждения.
В этом отношении священные книги также превосходят светскую литературу. Священное Писание полно образцовых силлогизмов, краткостью которых восхищаются риторы242. Таким образом, Руперт из Дойца подчеркивает и обсуждает точки соприкосновения между профанными и священными науками. Кстати, наш мистик проявил немалую степень диалектической беглости и в спорных сочинениях «De voluntate Dei» и «De omnipotentia divina», возникших в результате полемики с Ансельмом Лаонским и Вильгельмом из Шампо о соотношении божественной воли и морального зла.
Подлинным основателем средневекового мистицизма является святой Бернар Клервоский243, «религиозный гений XII века,244 прославленный Мабильоном как «ultimus inter Patres, primus certe non impar.245 Казалось бы, «Doctor mellifluus» не имеет места в истории схоластики; ведь в своем практико-мистическом направлении он выступал против применения философии к учению о вере, то есть против существенного аспекта схоластики, и привел к осуждению двух лидеров схоластического движения, Абеляра и Жильбера де ла Порри. Однако понимание взглядов Бернгарда на науку и научное предприятие, а также его влияния на интеллектуальные течения своего времени и всей последующей схоластики дает нам право отметить мощную фигуру великого цистерцианского аббата в представлении развития схоластического метода, не заходя при этом в область истории мистицизма.
Что касается позиции Бернарда по отношению к науке246, то известно, что в его работах содержатся резкие суждения, особенно о философии. Он говорит о «венценосном философском лохотроне*, об уловках Пиато и софистике Аристотеля, различает «науку мира, которая постигает тщеславие», «науку плоти, которая постигает волюнтаризм» и «науку святости, которая постигает временные распятия и наслаждения в вечности». Нельзя отрицать и того, что практико-мистическое настроение душевной жизни Бернгарда не могло подружиться с диалектической трактовкой истин веры и что его резкое выступление против Абеляра – это не только неприятие ошибок этого теолога, но и критика представленного им научного направления. Однако было бы, конечно, слишком далеко заходить, рассматривая Бернгарда как принципиального противника науки. Его негативные суждения о философских спекуляциях встречаются в основном в полемических сочинениях или в проповедях, которые он читал своим собратьям-монахам; они проистекают из его ревности к чистоте церковной доктрины и энтузиазма по отношению к добродетелям монашеской жизни.