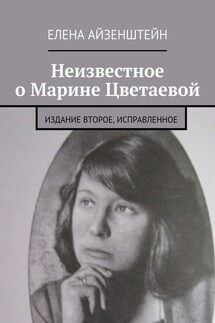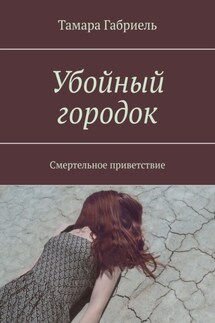Из моей тридевятой страны. Статьи о поэзии - страница 47
Е. Шварц умела быть истово верующей, и эту истовость веры она передала в стихах. Вот как изображается чувство церковной соборности: «О, сколько раз, возвращаясь вспять / Пяту хотела, бросаясь в землю, / Церкви в трещинах целовать» (2, 102) (Поэма «О том, кто рядом» (Из записок Единорога? 1980)). Образ пяты – вообще один из сквозных в ее поэтике, совмещающей разнорелигиозные образы, дохристианские, из эллинистического искусства («я занозила пятку»), и христианские («Россия крещена»). Здесь и Ахиллес, которого мать Фетида окунала за пятку, и «Мальчик, вынимающий занозу» (в Средневековье шип являлся символом первородного греха, так что мальчик аллегорически – грешник, пытающийся спастись). Пятка – образ отмеченности, уязвимости; Е. Шварц всю жизнь ощущала свою отмеченную Богом лирическую пяту. Поэты – «кубики, частицы», муравьи ангелов, радисты, по облачной рации передающие тайносведения об Атлантиде, Ахиллы, связанные не только с христианской Россией, но и со всей мировой пракультурой:
(1, 58) («Новости дня»)
В стихах Елены Шварц много картин нескладной жизни, трудной судьбы, жизненной или метафизической, и редко живописность поэтического пера бывает такой яркой и радостной, как в стихотворении «Мне Бог приснился как гроза…»,66 где видение прекрасного, распустившего хвост павлина – рисунок заревых облаков:
Красота неба дана в соединении с грозным началом («грозный рай»). и Бог в этих стихах – «грозный», а живописность напоминает лермонтовскую (Луны алмаз, темно-синий бархат неба, серебряные города). А в стихотворении «Соната темноты» (1975) Елена Шварц рисует Бога состоящим из сияния и копоти: из небесного блеска и сажи земного, человеческого, бытового ада: «Сиянье крыло пол-лица, / А пол-лица – душ наших копоть». Бог – главный шахтер, который с шахтерской лампочкой во лбу управляет людьми, чтобы дать свет небесным городам. Человеческая участь уподоблена работе шахтеров в забое:
(«В шахте»)
Елена Шварц пытается ответить на вопрос, зачем мучительное болевое существование, оправдание того света в иных мирах: зачем, становясь углем, согревающим других, «для топки погибаем рая». Многие петербургские поэты работали в котельных, а в стихах Елены Шварц эта работа превращается в символ духовного земного труда во славу небес: «И мы в слезах и муке, <…> / Кромешный уголь добывая, / Для топки погибаем рая» («В шахте»). «Он сделал нас бездонными – затем, / Чтобы тоска не ведала предела», – напишет Е. Шварц об обреченности на страдание в стихотворении «Я думала – меня оставил Бог…». Надо сказать, образ Бога-шахтера идет из стихов Эмили Дикинсон: «Шахтерской лампой рудника / Осветит жизнь любовь». )