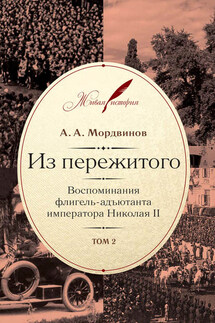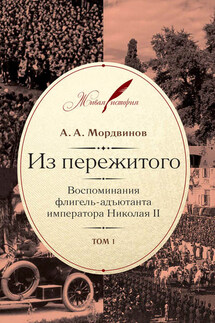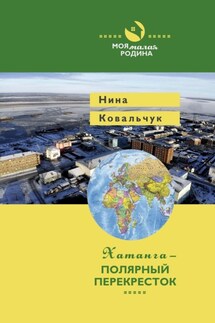Из пережитого. Воспоминания флигель-адъютанта императора Николая II. Том 2 - страница 58
Наш императорский поезд отошел из Пскова через Двинск в Могилев после 3 часов ночи.
Кажется, еще днем заботливым распоряжением генерала Тихменева из Ставки предполагалось для охраны нашего поезда вызвать некоторые железнодорожные батальоны с фронта, но затем под каким-то предлогом, совсем маловажным, штабом Северного фронта и это намерение было отменено.
Вспоминаю, что, несмотря на все безразличие, охватившее меня тогда, я мог еще в тайниках души радоваться желанию государя «проститься с войсками».
Я мог еще надеяться, что воображаемое мною появление государя на фронте среди войск сможет произвести такое сильное впечатление на хорошую солдатскую и офицерскую массу, что она сумеет сильнее нас убедить своего царя отказаться от рокового для всей страны решения.
Но для этого, конечно, надо было ехать возможно скорее на фронт, оставаясь лишь самое короткое время в Могилеве, так как в Ставке почти не было войск, а находились лишь чиновники военного дела.
Больше я ничего не помню из того, что было и что я переживал в тот день или, вернее, в ту ночь.
Я еле держался на ногах, не от физической, но от нервной усталости; я силился заснуть и не мог. Начались те долгие бессонные ночи в поезде, а затем и в Ставке, мучение которых знает только тот, кто имел ужас когда-нибудь их испытать и о которых боишься даже вспоминать…
Для меня те ночи были намного ужаснее моих тюремных кошмарных переживаний.
Днем становилось все-таки как будто немного легче – мелочи жизни, хотя и не наполняли объявшей меня мучительной пустоты, все же заставляли бодриться на виду у всех и оттягивали внимание от самого себя.
Мое тогдашнее состояние походило часто на переживание человека из «Последнего дня Осужденного» Виктора Гюго. Ему в судебной зале читают смертный приговор, а все его внимание приковано лишь к какой-то травке, так неестественно выросшей на окне суда.
Никогда во всю мою жизнь, даже находясь впоследствии подолгу в застенках большевиков и ожидая ежедневно и ежечасно кровавой расправы, я не испытал такого давящего ощущения и столько не перечувствовал мелочей, в ущерб, конечно, главному, как в ту пору.
Но все же это главное – обстоятельства, вызвавшие столь внезапный уход моего государя, – не переставали меня и тогда мучительно волновать.
За этот уход я втайне его упрекал, но я не мог упрекать так сильно, как упрекали его, быть может, другие, не менее меня преданные Его Величеству и моей Родине люди. Я его слишком любил как человека, чтобы не силиться найти в его тогдашнем поступке объяснение такому решению, которое в моих понятиях совершенно не подходило для царя всей России.
Но, понимая всем сердцем горечь волновавших его тогда чувств, я до сих пор очень мало понимаю из них одно: почему, судя по его телеграмме к матери, он считал себя таким одиноким и покинутым, когда не мог не чувствовать, что тут же рядом с ним, под одной кровлей вагона, бились все любящие его сердца, не менее, чем он, страдавшие одинаковыми переживаниями и за него, и за Родину?
Почему он как будто забыл о них и нашел возможность выслушать советы и мнения лишь от других, посторонних ему, конечно, и более чуждых и менее понимавших его людей?
Почему он не вспомнил с достаточной силой и >2/>3 русского народа, любившего его, верившего в него и, наверное, иначе ответившего бы на его сомнения, чем представители другой, явно враждебной ему – а вместе с ним и Родине – трети?