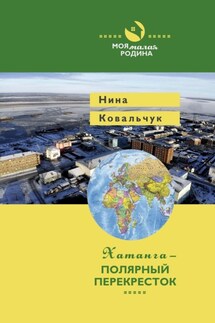Из тайников моей памяти - страница 77
11. Политика и изгнание из Москвы
В 1894 г. на одной студенческой вечеринке меня окружила группа студентов, добивавшаяся от меня объяснения современного положения. Я дал им объяснение, извлеченное из моего собственного жизненного опыта. Кончался тринадцатилетний период реакции, и наступала новая волна общественного движения. Тринадцать лет я мог безмятежно заниматься наукой; теперь больше не могу: все больше захлестывает политика. Политика и реакция, реакция и политика; размах политики все шире и сильнее, отступления реакции, остановки культуры – внутренне все слабее. Это была, в сущности, историческая тема моих нижегородских лекций, только откровеннее высказанная. Перспектива получалась для студентов самая оптимистическая. Куда она приведет, никто не подозревал, конечно. Но, помню, в переписке того времени я так представлял себе смысл последней перемены царствований.
Снята с России чугунная плита, новое царствование будет пестрое. Нужно будет пройти годам этого царствования, чтобы В. О. Ключевский мог высказаться в конце царствования более точно: «Николай II будет последним царем; Алексей царствовать не будет».
До этого было, конечно, еще далеко. Но признаки грядущих перемен, несмотря на то, что реакция, в сущности, еще не прекратилась, выползали из всех щелей. В университетской атмосфере, благодаря настроениям студенчества («барометр общества»), эти признаки были еще более ощутительны. Не только мне одному приходилось беседовать о политике со студентами. Популярных профессоров студенты вызывали, volens nolens (волей-неволей), на откровенные беседы. Помню одно такое секретное собрание, на котором, кроме меня, присутствовал по приглашению студентов и «сам» П. Г. Виноградов.
Разливался соловьем прославившийся впоследствии студент Виктор Чернов, – и уже по одному этому можно предположить, о чем велась беседа. Меня впоследствии власти обвиняли в «дурном» влиянии на студенчество. Уж не знаю, кто на кого оказывал «дурное влияние».
1891 год был переломным в смысле общественного настроения. Голод в Поволжье, разыгравшийся в этом году, заставил встрепенуться все русское общество. Несмотря на препятствия правительства, опасавшегося контакта интеллигенции с народом, удалось довольно широко развернуть общественную помощь голодающим. Известна инициатива Льва Толстого и В. Г. Короленко. Помню совещание, устроенное В. А. Гольцевым, на которое пришел и Толстой. Речь шла о воззвании к загранице о помощи голодающим. Толстой решительно отказался подписать такое воззвание, заявляя, что он обратится к загранице лично.
Другим взволновавшим общество событием в том же и следующем году было изгнание из Москвы 20 000 евреев, за которым следовал кишиневский погром евреев в 1893 г[12]. И по этому поводу мне вспоминается профессорский обед, периодически устраивавшийся и состоявший обычно из лиц, очень умеренно настроенных. На этот обед пришел Владимир Соловьев с определенной целью – заставить участников подписать протест против преследования евреев. Это было необычным для этого круга вмешательством в политику, и я с любопытством наблюдал, как поступят некоторые профессора. Все они подписали протест, даже Герье. Таково было настроение момента, отразившееся, как сказано выше, и в настроении нижегородской публики, собравшейся на мои лекции.
Приподнятое еще переменой царствования, это настроение было непродолжительно. В конце 1894 г. я читал свои лекции, а 17 января 1895 г. делегаты земских, дворянских собраний и городских дум, пришедшие поздравить Николая II с восшествием на престол, услышали от него памятные слова, выкрикнутые фальцетом, по бумажке: «Я узнал, что в последнее время в некоторых земствах поднялись голоса, увлекшиеся бессмысленными мечтаниями об участии представителей от земств во внутреннем управлении… Пусть каждый знает, что я… буду защищать начало самодержавия так же неизменно, как мой отец». Прокламация, приписываемая Ф. И. Родичеву