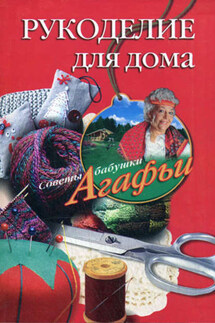Из воспоминаний - страница 34
Гораздо важнее было другое. Мало было оказаться «в курсе» вопросов. Надо было выбирать и решать. Та новая среда, в которую тогда я вошел, уже давно для себя решала вопросы, которых я себе до сих пор и не ставил, размышляла об «общем благе», о несправедливом устройстве современного общества, о своей вине перед теми, кто в нем был обижен. На наше недавнее прошлое многие из нее смотрели не теми глазами, что в моем прежнем кругу. Реформы 60-х годов им не казались драгоценным растением, которое нужно только беречь и выращивать. Даже в самую творческую, героическую эпоху самодержавия многие считали эти реформы слишком трусливыми. Не так ли судил даже Герцен в своей полемике против Чичерина? В позднейшее время пошли еще дальше. Ю. Мартов акт 19 февраля 1861 года называл уже «великим грабежом крестьянской земли для помещика» (Мартов Ю. Записки социал‐демократа. Ч. I. С. 331). На почве подобного понимания событий этого времени выросло не только сопротивление продолжению и «увенчанию» Великих Реформ (Лорис‐Меликов для революционеров был предметом сначала осмеяния, а потом покушения), но народилась и та роковая идея «цареубийства», которую с самопожертвованием и героизмом стали осуществлять фанатики‐народовольцы. Подобная тактика исходила из веры, что свержение привычной исторической власти вызовет народную Революцию, которая сумеет сразу построить новый и лучший социальный и политический строй. Я сам видел близких к народовольцам людей, которые думали, будто только случайность – арест Желябова и А. Михайлова – помешала в марте 1881 года Великой революции разразиться тогда же. От таких надежд приходилось теперь отказаться. Для «революции» русский народ оказался ни материально, ни духовно не готовым. Своей деятельностью и особенно своим успехом народовольцы в нем подготовили только «реакцию». Самая мысль после 1861 года сразу поднять весь народ против царя показала непонимание его психологии. Организация народовольцев без поддержки в народе была легко раздавлена простой «полицейской» техникой. Из этого теперь приходилось делать выводы и искать для борьбы с «побеждавшей» реакцией новых путей. Одни, наследники деятелей 60-х годов, по‐прежнему верили в возможность «сберечь и развивать» начала того нового строя, которые были даны в 60-е годы и были постепенно усвоены жизнью. Сюда относились и судебные учреждения, и земские установления; они могли укреплять в России «законность», защищать «права человека», развивать и распространять просвещение, подымать народное благосостояние. Делать это стало, конечно, гораздо труднее теперь, чем тогда, когда за этим стояло и сочувствие, и содействие власти; но добиваться этого и особенно отстаивать то, что уже было дано, защищать его от «разрушения» все же оставалось возможным. Это делали и судебные деятели, борясь законными средствами против нового, внушаемого им сверху в судах направления, и земцы в борьбе с губернаторами, и либеральные профессора при новом уставе; это особенно делала легальная пресса, поскольку ей это было возможно.
Но как раньше, так и в это время были и более нетерпеливые люди, которые не могли удовлетвориться подобною осторожной тактикой и хотели добиться «сразу» «всего». Они были по взглядам и по темпераменту наследниками народовольцев, но все‐таки уже научились из жизни, что прежняя тактика кроме разгрома ни к чему не приводит. Надо было поэтому сначала создавать себе поддержку и опору в народе, в наиболее многочисленных и обиженных классах его.