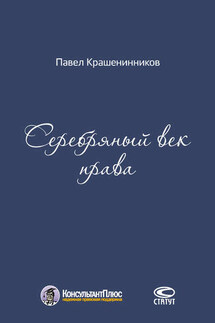Избранные труды. Том IV - страница 48
Но ввиду тесного единства, существующего между социалистическим правом и социалистической нравственностью, в форму юридического предписания может быть облечено требование о соблюдении этических установок советского общества. Типичный пример – ч. II ст. 5 Основ, в которой говорится, что «при осуществлении прав и исполнении обязанностей граждане и организации должны соблюдать законы, уважать правила социалистического общежития и моральные принципы общества, строящего коммунизм». Разумеется, ни правила социалистического общежития, ни принципы коммунистической морали не становятся источниками права в силу одного только того факта, что закон требует их соблюдения от граждан и организаций при осуществлении прав и при исполнении обязанностей. Но они, бесспорно, приобретают значение критериев, сообразно с которыми должно оцениваться поведение индивидов и их организованных коллективов, если ставится вопрос о том, что кем-либо из них было нарушено предписание, воплощенное в юридической норме. А это создает для граждан и организаций дополнительный, уже сугубо юридический мотив к строгому выполнению требований коммунистической морали и, таким образом, расширяет рамки этического воздействия также и на те отношения, которые подвергаются правовому регулированию и потому приобретают вид или форму правовых отношений. Сказанное позволяет утверждать, что процесс превращения юридических норм в социальные нормы будущего коммунистического общества отнюдь не исчерпывается такими фактами, как перенесение некоторых правил из правовой сферы в область морали. Он имеет и вторую, нередко, к сожалению, упускаемую из виду сторону, заключающуюся в том, что и некоторые моральные принципы могут приобрести на известном этапе правовую окраску, благодаря чему постепенно стираются грани между правом и нравственностью, но не посредством сокращения, а наоборот, путем увеличения численности и расширения сферы действия юридических норм, содержание которых ничем не отличается от чисто нравственных, этических правил.
Наряду с новыми формами и способами применения в практике социалистического правотворчества юридических запретов, дозволений и предписаний между ними устанавливается и новое соотношение. Особенно явственно оно проявляется в области правового регулирования экономических, т. е. социалистических имущественных отношений.
Позиция буржуазного государства по отношению к экономике выражается в формуле: все, что не запрещено, дозволено. Обусловлена такая позиция тем, что непосредственная экономическая деятельность современного капиталистического государства ограничивается производством военных расходов и (в некоторых странах) эксплуатацией национализированных отраслей промышленности. В остальном же хозяйство при капитализме ведется частными предпринимателями и капиталистическими монополиями, а потому буржуазное государство оказывается неспособным направлять его развитие. При помощи запретов оно лишь устанавливает границы осуществления экономической деятельности, долженствующие обеспечить охрану интересов класса капиталистических собственников в целом. Таковы, например, мы, запрещающие недобросовестную конкуренцию, шикану и т. п. За указанными пределами действуют диспозитивные нормы, восполняющие волю участников экономических отношений путем формулирования условий, которые являются типичными для каждого вида таких отношений, или «формулярные» нормы, навязывающие волю одной стороны другой.