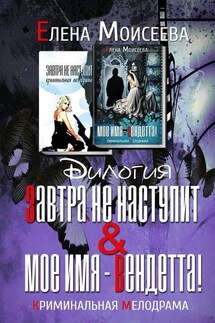К портретам русских мыслителей - страница 92
При этом перемены во взглядах на ход и вектор мировой истории тоже бессильны повлиять на подобный императив, ибо он продолжает потенциально оставаться эсхатологическим выходом в Царство Божие: если это не выйдет для мира, то уж непременно выход откроется для индивидуальной судьбы, а ведь она тоже относится к ведомству эсхатологии.
И когда в поздние годы Соловьев ощутит трагический баланс сил добра и зла и увидит конец истории в свете евангельских про рочеств, где эсхатология обретает черты апокалипсиса, то и это не девальвирует ценности той социальной этики, которой Соловьев служил всю жизнь, и не отменит правды условно-эсхатологических чаяний, принципиально неотменимых нашим нерадением. Пусть срыв их будет адресован человечеству. Но ведь истина не утратит своей универсальности, даже если в фактической истории ее теснит антихристова ложь. «Очевидно, – пишет Соловьев Е. Тавернье, – Христос чтобы восторжествовать разумно над антихристом, нуждается в нашем сотрудничестве». Такое эсхатологическое устремление подготовит человечество к последнему противостоянию добра и зла так, чтобы каждый человек сознательно и свободно мог совершить свой выбор за или против Христа. А это все та же работа по осуществлению «христианской политики», по утверждению Благой вести в сфере общественного сознания и бытия, или, как выражается Соловьев, – по «концентрации христианства». В прежней конкретно-стратегической установке христианского философа ничего не изменилось, ибо она есть установка последовательного христианина.
Всем, кто стремится видеть в «Краткой повести об антихристе» разрыв с заветами «христианской политики» и отказ от участия в истории, надо бы учесть, что эта повесть входит в «Три разговора», где обсуждаются вполне земные дела и проблемы международной политики, что было бы неуместным, если бы автор не ставил развязку истории в зависимость от нашего человеческого участия в текущем.
Какие бы историософские предвидения Соловьева ни оказались оправданными, стратегия, указанная им, осталась не только не опровергнутой, но, может, единственно реальной и спасительной для мира и для России, которая три четверти века жила в утопическом пространстве насильственной секулярной эсхатологии, обличаемой Соловьевым, а теперь ей грозит окунуться в хаос неразличения добра и зла, от которого он не менее настойчиво предостерегал.
Между тем освободившаяся от стального обруча российская жизнь неизмеримо больше, чем когда-либо, нуждается сегодня в тех «духовных основах жизни», на необходимости которых для «русского общества» после «высвобождения его из внешних рамок крепостного строя»326 так взволнованно настаивал «отец наш» Соловьев.
И. Роднянская
Конец истории и «окончательный взгляд на церковый вопрос»
К строению «Трех разговоров»327
Если «некалендарный двадцатый век» начался в России с 1914 года, то в русской мысли он повел отсчет с годичным опережением календаря – когда Владимир Соловьев выступил в 1900 году в Петербургской городской думе с чтением «Краткой повести об антихристе» и параллельно полностью опубликовал свое последнее творение в печати.
Спустя четверть столетия Георгий Федотов в знаменитой статье «Об антихристовом добре» (1926)328 в обстановке взлета коммунизма, фашизма и отчасти уже нацизма, то есть как бы неприкрытого зла, пытался доказать, что не изведавший такого




![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)