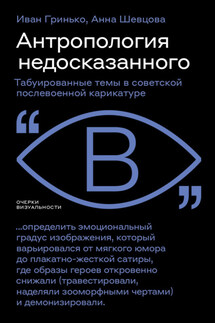Кандинский. Истоки. 1866-1907 - страница 34
Отсутствие у усть-сысольских зырян страха перед мертвыми было отмечено Кандинским как необычное явление. Все русские ученые XIX в., исследовавшие верования славян и других народов России, рассматривали страх живых перед смертью и мертвыми как древнюю, общую и самую устойчивую языческую черту народных поверий [Афанасьев 1861: 3–4; Иваницкий 1890: 115; Куликовский 1890: 54; Попов 1874: 65]. В основе этого страха видели отсутствие в языческих воззрениях ясных представлений о бессмертии нематериальной души, сформированных в христианстве [Булгаков 1993(2): Стлб. 1289; Долоцкий 1845: 366, 417–419]. Факт, что зыряне, как писал Кандинский, «даже бегают смотреть на покойника», указывает на разложение поверья, но еще не свидетельствует о христианском преодолении страха смерти.
Замечание Кандинского, что зыряне хоронят покойников в санях, означает, что гроб с телом перевозился на санях из дома на кладбище. Языческий обычай похорон в санях даже летом описан в древнерусских летописях, и старое выражение «сидеть в санях» означало ‘приближаться к могиле’. То, что зыряне, как отмечал Кандинский, не оставляли сани у могилы, противоречило языческой традиции, сохраненной на Русском Севере [Иваницкий 1890: 116; Котляревский 1891: 226; Попов 1874: 65]. Необычные местные черты зырянских похорон в описании Кандинского взаимосвязаны: зыряне не боялись мертвого и поэтому, если и перевозили гроб на кладбище на санях, то после похорон возвращали их домой или даже совсем не использовали сани, а несли тело на руках. Все это говорит о вырождении языческой традиции. С другой стороны, описание зырянских похорон, сделанное Кандинским, не содержит ни одного элемента христианского обряда.
Собственные стихи Кандинского, записанные в его дорожном дневнике, напротив, изображают христианскую похоронную процессию:
Согласно христианскому символизму, колокольный звон по умершему возвещает живым, что их число уменьшилось на одного брата, призывает их помолиться за него, а также напоминает им о грядущем конце их земного существования. Священник, «отец» умершего сына церкви, знает о пути спасения и о будущей вечной жизни души и тела усопшего христианина, потому он возглавляет похоронную процессию [Булгаков 1993(2): Стлб. 1288, 1327–1328; Долоцкий 1845: 365–366, 382–386]. Священник, гроб с телом и провожающие миряне – таков порядок процессии в русском похоронном обряде. Зырянскую же погребальную процессию обычно возглавлял глава дома, за которым следовал священник. Нередко зыряне хоронили умерших совсем без священника [Иваницкий 1890: 117; Налимов 1907: 2–3].
По русской православной традиции тело помещают в деревянный гроб, который остается открытым во время следования процессии из дома до церкви. После отпевания в церкви гроб закрывают, что означает окончательное отделение усопшего от мира живых. Тело в открытом гробу, а затем и закрытый гроб покрывают церковной парчой – священным покровом, символизирующем Христово покровительство [Булгаков 1993(2): Стлб. 1293, 1359; Долоцкий 1845: 370–372].
«Бедный гроб», не защищенный священным покровом, в стихах Кандинского подчеркивает противоположность между смертью и жизнью. В стихотворении Кандинского окончательность смерти утверждается двумя последними строками, построенными по метафорическому контрасту между жизненным теплом солнечных лучей и безжизненной холодностью чела умершего. Скептическое отношение Кандинского к христианской идее будущей вечной жизни после смерти было одной из его основных внутренних проблем. «Печальный звон» непосредственно связан со скрытыми личными причинами, по которым он предпринял свое этнографическое путешествие в Вологодскую губернию.