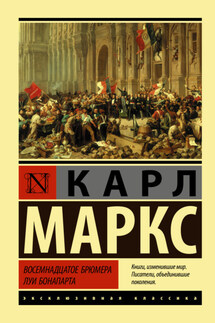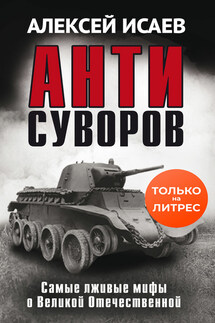Капитал. Том первый - страница 25
Во-вторых, освобождение труда от капитала: «Капиталистический способ присвоения, вытекающий из капиталистического способа производства, и следовательно, и капиталистическая собственность, есть первое отрицание индивидуальной частной собственности, основанной на собственном труде. Но капиталистическое производство порождает с необходимостью естественного процесса свое собственное отрицание. Это отрицание отрицания. Оно восстанавливает не частную, а индивидуальную собственность на основе достижений капиталистической эры…».[85] Пожалуй, только с учетом постиндустриальной, информационной технологии стало возможным по достоинству оценить это марксовское положение о восстановлении индивидуальной собственности, основанной на общественном процессе производства, т. е., строго говоря, об индивидуально-общественной собственности.
В-третьих, освобождение от труда, выход за пределы сферы материальной необходимости в сферу свободы и утверждение равных возможностей для обладания свободным временем. «Царство свободы начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, следовательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно материального производства».[86] И дело не в том, чтобы избавиться от самой необходимости осваивать природные силы в процессе их материального преобразования. На этой материальной основе практически освоенной естественной и общественно-исторической необходимости осуществляется абсолютное выявление творческих дарований и развитие человеческих сил как самоцели «безотносительно к какому бы то ни было заранее установленному масштабу».[87]
ОСНОВАНИЕ НОВОЙ ДИСКУРСИВНОСТИ
«Концепция “трансформации” Карла Маркса все еще востребована – если и не вся, то по большей части – в интерпретации мира как самопроизводства субъекта истории и истории субъекта».
Ж.-Л. Нанси
В своей получившей широкую известность работе «Что такое автор?» Мишель Фуко говорит об особом, весьма своеобразном типе автора, который «не спутаешь ни с “великими” литературными авторами, ни с авторами канонических религиозных текстов, ни с основателями наук», «с некоторой долей произвольности» называя их «основателями дискурсивности»,[88] Они – не просто авторы своих книг или теорий. Они создают «нечто большее»: возможность, тональность или правила образования других текстов, устанавливают «некую бесконечную возможность дискурсов».[89]
Фуко считает первыми и наиболее значительными «учредителями дискурсивности» Маркса и Фрейда. Они открывают не только возможность следовать им (и за ними), но и «пространство для чего-то отличного от себя и, тем не менее, принадлежащего тому, что они основали»,[90] релевантное ему. В отличие от основания определенной науки, установление дискурсивности не составляет части своих последующих трансформаций, не придает им формальную общность, гетерогенно им, но тем не менее очерчивает их первичные координаты. Вследствие этого «теоретическую валидность того или иного положения определяют по отношению к работам этих установителей».[91] Причем здесь вступает в силу требование или критерий некоего «возвращения к истоку» после различного рода непонимании, отходов, отказов, отступлений, забвений или даже опровержений. Но эти «возвращения» – необходимая и действенная работа, составляющая часть самой ткани дискурсивных полей, способ существования дискурсивности, беспрестанного ее видоизменения и преобразования.