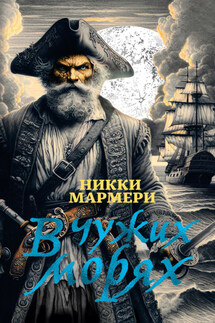Капитализм и ничего больше. Будущее системы, которая правит миром - страница 3
Разрыв в доходах начал сокращаться, причем очень значительно, после 1980-х. Реформы в Китае привели к подушевому росту примерно на 8 % в течение следующих сорока лет, резко уменьшив отставание страны от Запада. Сегодня ВВП Китая на душу населения составляет примерно 30–35 % от западного уровня, находясь на той же отметке, где он был около 1820 года, и демонстрирует явную тенденцию к дальнейшему росту (относительно Запада); вероятно, так будет продолжаться до тех пор, пока доходы практически не сравняются.
За экономической революцией в Китае последовало аналогичное ускорение роста в Индии, Вьетнаме, Таиланде, Индонезии и других странах Азии. Хотя этот рост сопровождался ростом неравенства внутри каждой из стран (особенно в Китае), сокращение разрыва с Западом способствовало сокращению глобального неравенства доходов. Это и стоит за недавним падением глобального индекса Джини.
Сближение азиатских доходов с доходами на Западе произошло во время другой технологической революции, революции информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – революции в производстве, которая на этот раз работала в пользу Азии (более подробно это обсуждается в главе 4). Революция в области ИКТ способствовала не только гораздо более быстрому росту Азии, но и деиндустриализации Запада, которая, в свою очередь, напоминает деиндустриализацию, происходившую в Индии во время промышленной революции. Таким образом, мы имеем два периода быстрых технологических изменений, которыми отмечена эволюция глобального неравенства (см. рис. 1.1). Последствия революции в области ИКТ еще не проявились до конца, но они во многих отношениях аналогичны последствиям промышленной революции: значительные перестановки в мировом рейтинге доходов по мере того, как одни группы поднимаются, а другие опускаются, а также выраженная географическая концентрация как победителей, так и проигравших.
Эти две технологические революции полезно рассматривать как зеркальные отражения друг друга. Одна привела к росту глобального неравенства за счет обогащения Запада; другая – к сближению доходов на больших территориях земного шара за счет обогащения Азии. Можно ожидать, что в конечном итоге уровни доходов будут примерно одинаковыми на всем евразийском континенте и в Северной Америке, что поможет еще больше сократить глобальное неравенство. (Большим вопросом, однако, остается судьба Африки, которая пока не догоняет богатый мир и население которой растет быстрее всех.)
Изменение мирового экономического баланса носит не только географический характер; это еще и политическое явление. Экономический успех Китая подрывает утверждения Запада о необходимой связи между капитализмом и либеральной демократией. Собственно, и внутри самого Запада это утверждение ставится под сомнение популистскими и плутократическими поползновениями на либеральную демократию.
Изменение баланса сил в мире выводит азиатский опыт на передний план в размышлениях об экономическом развитии. Экономический успех Азии сделает ее модель более привлекательной для других и может изменить наше понимание экономического развития и роста, подобно тому как за последние два столетия на наши взгляды повлияли британский опыт и выводы Адама Смита, опиравшегося на этот опыт.
За последние сорок лет пять крупнейших стран Азии вместе взятых (кроме Китая) имели более высокие темпы роста на душу населения, чем западные экономики, за исключением двух лет, и эта тенденция вряд ли изменится. В 1970 году Запад производил 56 % мировой продукции, а Азия (включая Японию) только 19 %. Сегодня эти пропорции составляют 37 и 43 %