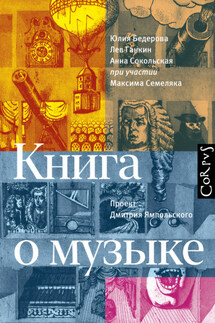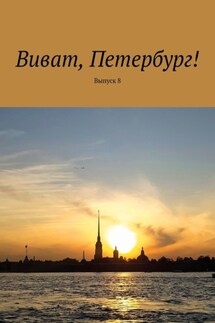Книга о музыке - страница 4
[11].
Элиаде сравнивает разные традиции получения оккультного знания и находит в них общее – поэзию и музыкальные инструменты: “Шаманы, готовясь к трансу, поют и бьют в барабаны; ранняя центральноазиатская и полинезийская эпическая поэзия часто описывает приключения шаманов в их духовных экстатических путешествиях. Главным атрибутом Аполлона является лира; когда он на ней играет, он зачаровывает богов, диких зверей и даже камни”[12].
Игрой на лире усмирял природу и Орфей: “Птицы слетелись слушать певца. Даже деревья двинулись с места и окружили Орфея… ни одна ветка, ни один лист не дрожал на них”[13].
В западноевропейской композиторской музыке начиная с эпохи Возрождения и рождения оперы этот миф – самый любимый.
Миф об Орфее и его письменные пересказы, включая “Метаморфозы” Овидия, стали основой целого жанра – оперы и ее разновидностей. Одной из первых музыкальных драм считается поставленное в Мантуе в 1471 году “Сказание об Орфее” Анджело Полициано. А первой из сохранившихся опер – “Эвридика” Якопо Пери (представление 1600 года). Сразу за ней появилась “Эвридика” Джулио Каччини и через несколько лет, в 1607 году, – “Орфей” Монтеверди. История на этом не закончилась, и миф об Орфее оставался одним из самых частых оперных сюжетов в течение столетий: в XVIII веке Кристоф Виллибальд Глюк отметил новыми “Орфеем и Эвридикой” наступление собственной оперной реформы, свои версии оставили Георг Филипп Телеман, Карл Генрих Граун, Джованни Баттиста Перголези, в XIX веке – Жак Оффенбах (он шокировал публику саркастическим “Орфеем в аду”), в XX веке – Дариус Мийо, Александр Журбин, и это далеко не полный перечень авторов. Следы орфического мифа обнаруживаются и там, где не ждешь, – от “Кольца нибелунга” и “Парсифаля” Рихарда Вагнера до “Садко” Николая Римского-Корсакова. В 1932-м в Венеции Альфредо Казелла сочинил “Сказание об Орфее”, где в числе прочего восстановил двусмысленный, открытый финал первой версии “Орфея” Монтеверди, известный по либретто, изданному в год премьеры автором текста – поэтом, адвокатом и дипломатом Алессандро Стриджо. В этой версии 1607 года на безутешного Орфея, отрекшегося от женщин, набрасываются разъяренные вакханки. В тексте не сказано, разрывают ли они его на части, как у Овидия: опера заканчивается гимном Вакху. Но в партитуре 1609 года в финале оперы к Орфею вместо вакханок на мощной театральной машине спускается Аполлон: он утешает его и провожает на небо, где среди звезд тот встретит свою Эвридику и никогда с ней больше не расстанется.
Орфей, играющий на лире для Гадеса и Персефоны. Гобелен. Ок. 1685.
Аэды, трагики, гимнасты, или Конкурс песни “Грековидение 2020 до н. э.”
В античности музыка понималась как дар богов – один из аэдов (музыкантов-импровизаторов) Фемий восклицает в “Одиссее”: “Я самоучка; само божество насадило мне в сердце / Всякие песни…”[14]
Другое дело, что своенравным богам-олимпийцам уже не угодить одним и тем же молитвенным пением – так они могли и затосковать, а это, разумеется, не сулило жителям Древней Греции ничего хорошего. Если шаман, зная, чего от него ждут высшие силы, при каждом сеансе связи воспроизводил примерно один и тот же музыкальный алгоритм, то античные аэды и гимнопевцы, напротив, стремились удивить слушателей на Олимпе и на земном пиру, чтоб те не теряли интереса к происходящему. Так что служебная функция музыки смыкалась с увеселительной – богов предполагалось главным образом развлечь и так заручиться их симпатией.