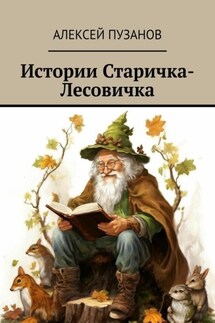Книгоедство - страница 54
Мы на вас смотрели глазами арийцев, пока у вас было лицо. А на морду вашу мы взглянем нашим косящим, лукавым, быстрым взглядом; мы скинемся азиатами, и на вас прольется Восток.
Ваши шкуры пойдут на китайские тамбурины… Мы – варвары? Хорошо же. Мы и покажем вам, что такое варвары…
Это запись от 11 января. А 30 января написано стихотворение «Скифы», в котором ритмом и стихотворным размером переданы те же самые мысли.
«Меня все невзлюбили. Как-то сразу возненавидели», – жаловался поэт после выхода поэмы «Двенадцать». Действительно, в литературных кругах поэму принимали либо восторженно, либо не принимали вовсе. К числу последних относилось большое число людей, которых поэт еще недавно причислял к кругу самых своих близких знакомых. Это его тяготило до самых последних дней.
Новая, революционная, власть отнеслась к «Двенадцати» равнодушно («Блока обидело еще то, что революция почти никак не откликнулась на „Двенадцать“. – Е. Зозуля. „Встречи“. М., 1927), хотя отклики поэма нашла. „Конечно, Блок не наш, – писал Троцкий (правда, в 28-м году, когда поэта уже семь лет как не стало). – Но он рванулся к нам. Рванувшись, надорвался. Но плодом его порыва явилось самое значительное произведение нашей эпохи. Поэма “Двенадцать” останется навсегда“.
Можно бы, конечно, и кончить рассказ о книге на этой доброй троцкистской ноте, но лучше дадим слово самому Блоку – как он сам, какими глазами видел свою поэму и какое сулил ей будущее. «Посмотрим, что сделает с этим время. Может быть, всякая политика так грязна, что одна капля ее разложит и замутит все остальное; может быть, она не убьет смысла поэмы; может быть, наконец, – кто знает! – она окажется бродилом, благодаря которому “Двенадцать” прочтут когда-нибудь в не наши времена».
Дельвиг А.
Эти строчки из послания Баратынского 1820 года перекликаются с пушкинскими:
– написанными в 1831 году, когда Дельвига уже не было на земле.
Дельвиг сделался для русской литературы неким символом чего-то безвозвратно ушедшего, того яркого и ясного мира, который был и которого вдруг не стало, и время разделилось на золотое вчера и пасмурное сегодня, и стена между ними непреодолима на этом свете. Недаром Андрей Белый в «Петербурге» делает эти строки Пушкина лейтмотивом всего романа, повторяя их с печальной настойчивостью, когда говорит о поколениях отцов и детей.
Но мне больше по сердцу Дельвиг другой, живой, который снимет телефонную трубку и позовет тебя, по-юношески картавя:
«Демон» М. Лермонтова
Художник Михаил Врубель, выставив на экспозиции «Мира искусства» в 1902 году своего «Поверженного Демона», продолжал работать над картиной даже на глазах публики и испортил ее. Наверное, «Демона» просто сглазили, или сам Демон навел на картину порчу. Точно также и Лермонтов, чья поэма послужила источником вдохновения Врубеля, работал над «Демоном» едва ли не всю жизнь – переделывая, подгоняя под условия времени, добавляя новые строфы, вычеркивая ненужные и т. д. Существует 8 авторских редакций поэмы, последняя закончена за несколько месяцев до смерти.