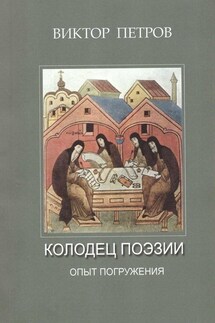Колодец поэзии. Опыт погружения - страница 13
Пока я утолял свою летнюю духовную жажду поисками глубинной живительной влаги поэтического слова, починили водонапорную башню. Случилось это прямо к сезону долгих сеногнойных дождей. Жизнь в деревне вошла в привычное русло. Из колонок вновь лилась ржавая казённая вода, и тропы к колодцам быстро заросли чертополохом. Ни скрипа ворота, ни позвякивания цепи. Ушла беда – и не нужна колодезная вода. Но я твёрдо решил стать автономным, не зависеть ни от каких администраций. Я пробурил возле дома свою скважину до подземных истоков – и какая же там оказалась свежайшая, чистейшая, вкуснейшая вода! Кто его знает, что там нас ожидает в ближайшем будущем? Пути Поэзии неисповедимы.
КОЛЫБЕЛЬНОЕ СЛОВО
«Поэзия есть принадлежность человека:
без неё он не может дышать».
Н. И. Костомаров
«Баю-баю, о лю-лю,
Усыплю да удремлю…»
Из народной колыбельной песни
Сколько лет я читал записи колыбельных песен – и не замечал их внутреннего затаённого богатства! Читал как книгу, про себя, соскальзывая с плоскости листа. И вот произошло неожиданное. Этим летом, настежь растворив окно в палисад, стал я не читать, а напевать строки. Ветер оживлял листву яблоньки под окном, вызывая на ней и в моей душе зыбь. И началось чудо оживления народного Слова. Тут мне помогла моя мама. Из памяти всплыл её голос. Он звучал негромко и задушевно, и я услышал слова, так и не встретившейся мне в обширном фольклорном фолианте:
И, как в детстве, я погрузился в некое пограничное состояние сознания между явью и дрёмой. Мама подарила мне золотой ключик, которым и открылась дверь в мир колыбельного слова, до этого наглухо впечатанного в книгу собрания русской народной словесности.
Тот, кто в своем младенчестве слушал колыбельную песню, тот всю свою последующую жизнь станет по крайней мере бессознательно чутким к слову. И это в любом народе, поскольку душа у людей одной природы и поскольку существует общечеловеческое чувство прекрасного, а значит, и необходимого. Из всех традиционных жанров фольклора колыбельная песня в большей или меньшей степени присуща всем языкам, этносам, что косвенно говорит о её древности, вернее, изначальности. В ней исток поэзии, пробивающийся не только в отдельных индивидуумах, но и во всём человечестве. Даже при нынешнем общем угасании традиций колыбельная песня дольше других жанров фольклора удерживается в домашнем обиходе. Безусловно, она трансформируется, преобразуется, то обедняясь, то обогащаясь, но не исчезает и, дай-то Бог, никогда не исчезнет. Она является очевидной константой духовности, культуры, словесности, связующей воедино все эпохи, а посему – неистребима. Невозможно войти в поэзию родного языка, минуя звучащее над люлькой материнское колыбельное слово. Если сравнить новорожденного с зерном, то в колыбельной песне заключена сила, зовущая к прорастанию, к движению вверх, к теплу и свету. К небу.
Как в благодатном чреве матери вынашивается плод будущего человека, так в тёплом уюте люльки-зыбки, окутанной атмосферой песни, ещё задолго до проблесков разума пробуждается в ребёнке душа. Она купается в её искренней заботе, дрожит в её ритмах от радости роста, постепенно осваивая родной язык задолго до произнесения первого слова.
Одна в избе русская печь, согревающая всю семью, одна в доме и люлька на всё подрастающее поколение. Старшие дети покидали колыбель, младшие занимали её. Сравнение русской печи и колыбельной песни приведено не для красного словца, оно, как мне представляется, имеет глубокий и символичный смысл. Русские народы, оттеснённые к арктическим пределам, выработали особое чувство тепла и защищённости. Если долгими зимами не топить печи, то тепло исчезает, а с ним и жизнь. Отсюда и широкое применение в нашем языке прилагательного «тёплый», относящегося и к слову, и к звуку, и к взгляду человека, и к разговору, и к отношениям между людьми, и к душе, и т. д. И это не дарованное самой природой, как у южных народов, а рукотворное тепло, впитанное с молоком матери, сформированное особым укладом быта и бытия.