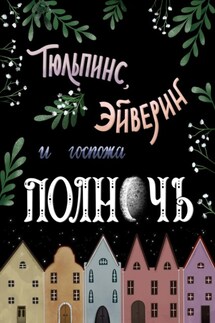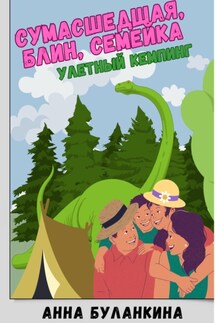Конармия. Одесские рассказы - страница 10
Темы жестокости и милосердия получают развитие в цикле «Одесские рассказы» (создававшемся в 1923–1924 годах и впервые опубликованном в 1931 году), но решаются они на ином историко-культурном материале: в центре внимания художника оказывается повседневная жизнь дореволюционной Одессы, точнее, той ее части, которая была центром преступного мира города, – знаменитой улицы под названием Молдаванка. Правда, поистине всенародную славу Молдаванка обретет позже, в 1943 году, когда популярный актер и певец М. Бернес исполнит песню Н. Богословского на слова В. Агатова «Шаланды, полные кефали…», написанную для фильма «Два бойца».
Образ моряка-одессита, которым восхищается если не вся Одесса, то улицы – Молдаванка и Пересыпь, соединится в сознании слушателей и зрителей с исполнителем песни. Специфическая интонация, неправильные речевые обороты, характерные для этого южного говора («не скажу за всю Одессу»), – все это закрепит в отечественной культуре черты обаятельного одессита – никогда не унывающего, вальяжного и остроумного. Безусловно, этот образ подготовлен не только городским фольклором, но и литературой – в том числе «Гамбринусом» Куприна, восхищавшегося силой духа, жизнерадостностью, артистизмом, находчивостью простых жителей города.
Но если Куприн рисует Одессу как многонациональный город, то Бабель показывает «свою» Одессу, до революции находившуюся в черте оседлости, то есть в той части Российской империи, где имели право постоянного проживания евреи, и пересекать границы отведенного пространства разрешалось лишь некоторым категориям – купцам первой гильдии прежде всего (ограничения по передвижению были отменены Временным правительством в 1917 году). И Бабель, как выходец из этой среды, сосредоточен на изображении знакомого ему с детства национального уклада, выступая в роли его летописца. В известном смысле он повторяет путь Гоголя, познакомившего читателя-современника с миром Малороссии. Бабелевская Одесса – столь же экзотический мир, как и гоголевская Диканька.
При этом все внимание писателя направлено на тех, кого можно было бы охарактеризовать как потомков Робин Гуда, – на фигурах «благородных разбойников», поступки которых, однако, выходят за рамки привычных представлений о благородстве, о морали, о добре и зле: витальность, находчивость, дерзость и остроумие не отменяют их жестокости и едва ли не первобытной кровожадности. И все же при том, что отношение писателя к представителям криминального мира далеко от восхищения, не будет преувеличением сказать, что так называемая уголовная романтика, которой овеян в массовом сознании образ Одессы, – это своего рода художественное завоевание Бабеля. Именно он наделил одесских преступников, налетчиков и бандитов тем обаянием, которое впоследствии «перейдет» к еще одному знаменитому проходимцу – Остапу Бендеру, герою дилогии Ильфа и Петрова, созданной немногим позднее – в конце 1920-х годов. Однако авантюры Остапа несопоставимы со злодеяниями бабелевских удальцов и кажутся на их фоне безобидными шалостями. Кроме того, герой-авантюрист Ильфа и Петрова будет обводить вокруг пальца уже советских обывателей и мещан, тогда как бабелевские герои совершают свои «подвиги» в дореволюционной Одессе.
Тема прошлого подчеркивается уже названием одной из новелл – «Как это делалось в Одессе». Сама глагольная форма несовершенного вида («делалось») заостряет внимание на том, что преступления совершались не единожды и были возведены в ранг нормы, более того, идеализировались, обретали статус образца, овеянного легендами, воспринимались не как «действия», но поистине «деяния». Безусловно, автору важно ошеломить, шокировать читателя поступками героев – и потому он выбирает самые яркие и показательные истории этой криминальной «мифологии». При этом в цикле нет единого сюжета, и это не случайно. Череда картин призвана не поведать некую историю, но создать образ мира – с его характерным укладом, обычаями. И потому география (топография) для автора важнее истории.