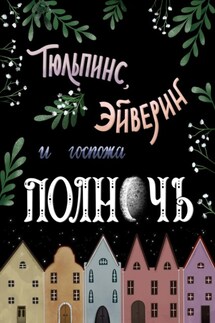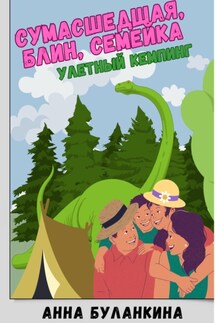Конармия. Одесские рассказы - страница 7
Лютов, стремящийся стать «своим» для красноармейцев, ощущает духовное родство с людьми не по классовому, а по какому-то иному принципу. Он называет своим «братом» не только «мужицкого атамана» Илью Брацлавского, но и идейного врага – убитого поляка. Рассказчик, исповедующий идею революции, тем не менее не делит мир на красных и белых.
Кажется, что круг действующих лиц в «Конармии» ничем не ограничен: в поле зрения читателя попадают «проходные», не несущие на себе сюжетной нагрузки персонажи – такие, как некий галичанин с коровой, на первый взгляд оказавшийся на страницах новеллы «Эскадронный Трунов» лишь потому, что живописен. «Случайные» персонажи, однако, отнюдь не случайны: их появление мотивировано внутренним сюжетом той или иной новеллы и психологическим настроем рассказчика. Смакование избыточных с точки зрения сюжета подробностей проявляет себя едва ли не в каждой новелле. Так, «Учение о тачанке» действительно открывается рассуждениями о тачанке, а заканчивается сопоставлением северных и южных евреев.
Возможно, тачанка, а по сути, та же бричка – колонистская или заседательская, заставляющая вспомнить о чичиковской бричке, – позволяет автору, подобно Гоголю, совершать свое путешествие, свободно переходить от темы к теме, повинуясь исключительно прихотливой логике ассоциаций. Мотив дороги помогает Бабелю вводить в художественное пространство своего произведения все новых героев, добиваясь эффекта всеохватности жизненного материала. Однако ощущение художественно необработанного материала – не более чем иллюзия. Композиция цикла, в том числе и группировка персонажей, тщательно выверена.
В системе персонажей на передний план выдвигаются фигуры людей, духовно близких рассказчику. Это правдоискатели, люди, пытающиеся понять, как соотносятся идеи революции с общечеловеческими ценностями. Таков Илья Брацлавский, любящий сын, утверждающий тем не менее, что мать в революции – «эпизод». Таков старьевщик Гедали, не понимающий, почему идея интернационализма, начертанная на знамени революции, на практике оборачивается погромами. Гедали задается вопросом: чем же отличается революция от контрреволюции, если и та и другая несут с собой страдания и гибель ни в чем не повинным людям? Герой-повествователь вступает в спор с Гедали, однако композиция цикла подтверждает правоту смешного и наивного местечкового философа, жаждущего «интернационала добрых людей», но видящего вокруг лишь бесчинства и жестокость. Именно смешной Гедали выступает здесь в роли своеобразного резонера. В соответствии с традициями русской литературы Бабель доверяет собственные мысли чудаку.
Высокая тема родства и братства всех людей предстает в комедийно сниженном плане, но от этого не теряет своей привлекательности ни для рассказчика, ни для автора.
Особое место в новеллистическом цикле занимает образ пана Аполека – новоградского юродивого художника, едва ли не ставшего «основателем новой ереси». «Беспечный богомаз» расписал стены новоградского костела изображениями святых, сценами из Священного Писания: поклонения волхвов, Тайной вечери, побиения камнями Марии Магдалины. Но святые пана Аполека списаны с его знакомых: в Иоанне Крестителе рассказчик узнал пана Ромуальда, помощника бежавшего ксендза.
Хромой выкрест Янек под кистью художника преобразился в апостола, еврейская девушка Элька, «дочь неведомых родителей и мать многих подзаборных детей», – в Марию Магдалину. Имеющий «пристрастие к знакомым лицам», пан Аполек, после того как его выгнали из храма, возвел в святые окрестных крестьян: «В заказах он не знал недостатка. И когда через год, вызванная исступленными посланиями новоградского ксендза, прибыла комиссия от епископа в Житомире, она нашла в самых захудалых и зловонных хатах эти чудовищные семейные портреты, святотатственные, наивные и живописные. Иосифы с расчесанной надвое сивой головой, напомаженные Иисусы, многорожавшие деревенские Марии с поставленными врозь коленями – эти иконы висели в красных углах, окруженные венцами из бумажных цветов».