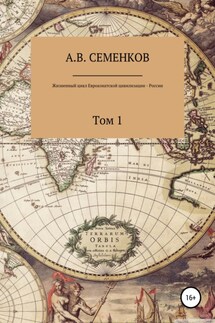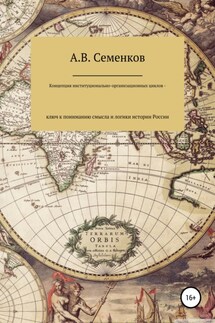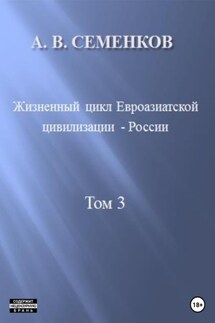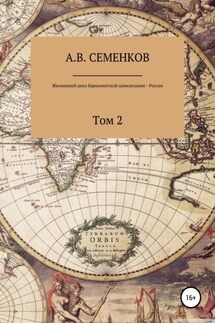Концепция институционально-организационных циклов – ключ к пониманию смысла и логики истории России - страница 11
3.1. Н.М. Карамзин – литератор
Послужив в армии непродолжительное время, Н.М. Карамзин в невысоком звании поручика в 1784 году 17-ти лет отроду вышел в отставку и вернулся в Симбирск. Здесь он вел внешне светскую жизнь, но при этом занимался самообразованием: изучал историю, литературу и философию. Впереди целая жизнь. Чему посвятить ее? Литературе, исключительно литературе – решает Н.М. Карамзин. Он пишет другу: «Я лишен удовольствия читать много на родном языке. Мы еще бедны писателями. У нас есть несколько поэтов, заслуживающих быть читанными». Конечно, писатели уже есть, и не кое-кто, а М.В. Ломоносов, Фонвизин, Державин, но значительных имен не более десятка. Неужто талантов мало? Нет, они есть, но дело стало за языком: не приспособился пока русский язык передавать элегантные мысли, изящные чувства, описывать новые предметы. Н.М. Карамзин много сделал для развития русского литературного языка, освободил прозу от обветшалых, архаических форм, выработав легкую, изящную интонацию фразы, обогатив словарный состав. По выражению А.С. Пушкина, «Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова».
Ключ самобытности русской культуры Н.М. Карамзин видел в истории. Наиболее яркой иллюстрацией его взглядов стала повесть «Марфа Посадница». В своих политических статьях Карамзин обращался с рекомендациями к правительству, указывая на роль просвещения.
В критических статьях Н.М. Карамзина вырисовывалась новая эстетическая программа, что способствовало становлению русской литературы как национально-самобытной. В русской литературе Н.М. Карамзин выступил зачинателем нового направления – сентиментализма. Его полные меланхолии и горестного томления стихотворения – элегии, дружеские послания, мадригалы – своим психологизмом, лирической трактовкой пейзажа прокладывали путь поэзии В.А. Жуковского (1783–1852). К середине 1790-х Карамзин стал признанным главой русского сентиментализма, открывавшего новую страницу в русской литературе. Он был непререкаемым авторитетом для В.А. Жуковского, Батюшкова, юного А.С. Пушкина. В России в то время всем мыслящим людям жилось так плохо, что, по выражению Н.М. Карамзина, «великодушное остервенение против злоупотреблений власти заглушало голос личной осторожности» («Записка о древней и новой России»).
3.2. Н.М. Карамзин – журналист и издатель
В 1791 году Н.М. Карамзин начинает издавать ежемесячный «Московский журнал», в котором были напечатаны: большая часть «Писем русского путешественника», повести «Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь», «Прекрасная царевна и счастливый карла», а также очерки, рассказы, критические статьи и стихотворения. К сотрудничеству в журнале Н.М. Карамзин привлек Дмитриева и Петрова, Хераскова и Державина, Львова, Нелединского-Мелецкого и др. Успех «Московского журнала» был грандиозный – целых 300 подписчиков. По тем временам очень большая цифра. «Московский Журнал» прекратился в 1792 году, быть может, не без связи с заключением в крепость Новикова и гонением на масонов. Большую часть 1793–1795 годов Н.М. Карамзин провел в деревне и подготовил здесь два сборника «Аглая», изданных в 1794 и 1795 году. В 1796 году он издал сборник стихотворений русских поэтов, под названием «Аониды». Через год появилась вторая книжка «Аонид». Затем Н.М. Карамзин задумал издать нечто вроде хрестоматии по иностранной литературе – «Пантеон иностранной словесности». В 1802–1803 он издавал журнал «Вестник Европы», в котором преобладали литература и политика. Н.М. Карамзин работал невероятно много. Он сотрудничал и в первом русском детском журнале, который назывался «Детское чтение для сердца и разума». Только для этого журнала Н.М. Карамзин каждую неделю писал по два десятка страниц.