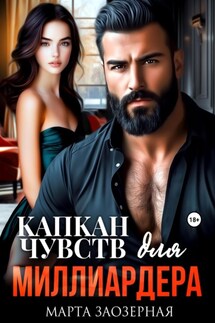Конфликт, война и революция: Проблема политики в концепциях международных отношений - страница 3
Сосредоточение на международной теории позволяет взглянуть на более широкую картину, из которой в значительной степени как раз и складывается внутренняя политика. Оно не предполагает приоритета внутренней политики и представления о международной политике как проблематичном остатке. Напротив, такой подход понимает вызовы международной политики в качестве если и не первичных и автономных в полном смысле слова, то по крайней мере сопутствующих проблеме разграничения политических сообществ и мест политической агентности. Неудивительно, что в значительной своей части политическая теория и философия считает теорию международных отношений вторичной, чем-то вроде приложения. В этом и заключается наследие работ Гоббса о политической мысли и международных отношениях, отголоски которого можно обнаружить в трудах Джона Ролза, наиболее значительного политического философа второй половины XX в. Но взгляд Августина и Макиавелли, если привести только два этих примера, был определенно иным, поскольку для них различие между внутренним и международным не имело смысла.
Нарратив, построенный в этой книге, намеренно избегает термина «история», поскольку он не пытается дать обзор всех подходов, обнаруживаемых в курсах по теориям международной политики. Действительно, если вернуться к приведенному мной выше списку способов организации политической агентности, станет ясно, что я намеренно не включил в него такие организующие категории, как индивид, общество или экономика, так или иначе присутствующие в общей картине мышления о международных отношениях, как она определяется в западном каноне. Это решение может быть спорным, однако оно представляет собой сознательную попытку выйти за пределы редукционистских подходов, сводящих политику к морали, экономике или обществу. Слишком часто современная мысль, занятая нашими глобальными проблемами, предполагает прогрессивное формирование порядка, чьей кульминацией в Новое время оказывается триумф вестфальской государственной системы и ее международных институтов, а также глобализированной рыночной экономики. В этих подходах к международной политике первую скрипку играет отдельный человек, понимаемый в качестве носителя прав и уникального этического достоинства или же в качестве максимизатора индивидуальной полезности, чьи предпочтения строго упорядочены. Во многих академических дискуссиях, в политической теории и политологии эта концепция человека считалась достаточно точным описанием моральной и экономической агентности, а также основанием всех остальных политических структур и групп. Это, в свою очередь, привело к преобладанию некритически понятого и аполитичного космополитизма, скрывшего некоторые из наиболее фундаментальных вызовов современной политики.
В этой книге я не пытаюсь отвергнуть индивидуализм или космополитизм как ценностные системы. Собственно, в другой своей работе я высказался в поддержку определенной версии этого подхода, который назвал либеральным эгалитаризмом [Kelly, 2005]. Но в актуальной ситуации, где под вопрос поставлена сама концепция агентности, поддерживающая такой подход, мне более интересны вызовы, брошенные этому мировоззрению и все больше занимающие центр сцены. Этот индивидуалистический и космополитический взгляд на саму область политического не только определил форму современной политологии и исследования международных отношений. Он же привел к исключению взглядов, заставляющих нас рассматривать иные способы ведения политики и применения власти, силы и насилия, понимания целей политической деятельности и ее фундаментальной цели. Тогда как в этой книге предпринимается попытка предложить введение в политическое мышление и теорию международной политики, не предполагая при этом, что политическая агентность и институты должны обладать устоявшимся характером и структурой, соответствующими моральному индивидуализму и сходящимися к либеральному конституционализму как наилучшей форме политической организации.