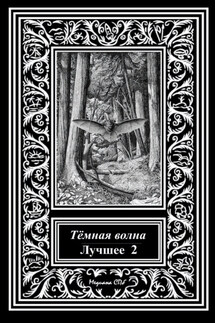Конституционные мифы и конституционные иллюзии. О героическом прошлом и лучшем будущем - страница 5
Какие мотивы лежали в основе выбора отцов-основателей американской конституции в пользу или против той или иной социальной конструкции? Их поиск приводит к критике мифа о беспристрастности отцов-основателей, обусловленности их решений лишь требованиями высших конституционных материй. Тезис экономической ангажированности отцов-основателей восходит к работам Ч. Бирда[3], среди которых советские низвергатели буржуазного конституционализма [Согрин В. В., 1987. C. 41–57] особо выделяли «Экономическое истолкование Конституции Соединенных Штатов» («An Economic Interpretation of the Constitution of the United States»). Ч. Бирд с истинно американской деловой дотошностью провел инвентаризацию бизнес-интересов всех 55 участников Филадельфийского конвента, работа которого завершилась подписанием американской Конституции[4]. В итоге Бирд обосновал весьма неприятный тезис, что каждый из них представлял интересы одной из четырех групп: финансового капитала, владельцев государственного долга, мануфактуристов, торгово-купеческих кругов [Beard Ch. A.,1913. P. 324]. Поэтому в Конституции США запрограммировано сильное федеральное правительство, среди важнейших задач которого – представление интересов финансового капитала и промышленных кругов.
Вряд ли кто-то посмеет отрицать, что любое правительство в истории призвано защищать экономические и финансовые интересы национального бизнес-сообщества. При этом с точки зрения обеспечения политической стабильности полезно задаваться вопросами о том, не вступает ли это правительственное призвание в противоречие с доктриной народного суверенитета, концептом общественного договора, ценностями разделения властей, открытости правительства и т. п. – всем тем, что предстает основными элементами конституционной мифологии.
«Относительно конституций существует множество общих убеждений и мифов, которые граждане воспринимают как должное», – утверждает А. Марсиано [Marciano A., 2011. P. 2], прежде всего посягая на краеугольный камень конституционного строительства – идею народного суверенитета. По мнению автора, само утверждение о том, что народ является источником власти, – конституционный миф, поскольку фактически граждане государства не вовлечены в процесс подготовки и написания конституции [Marciano A., 2011. P. 4]. Это утверждение можно считать маргинальным в череде высокопарных конституционных положений и философских размышлений о народном суверенитете. Конституция Японии в преамбуле декларирует принцип народного суверенитета «общим для всего человечества»:
Государственная власть основывается на непоколебимом доверии народа, ее авторитет исходит от народа, ее полномочия осуществляются представителями народа, а благами ее пользуется народ. Это – принцип, общий для всего человечества, и на нем основана настоящая Конституция.
Рассуждая о народовластии, как правило, говорят лишь о правах народа, народном суверенитете. Идея народного суверенитета – это теоретическая философская и правовая категория, которая находит свое практическое воплощение в целой системе конституционных институтов и механизмов. Народ – суверенный властитель только в пределах своего права, и только если народ действительно это право определяет, а не в случае, если это право навязывается ему какими-либо иными, непредставительными органами. Народа метафизического нет, как нет народа эмпирического – есть избирательный корпус, есть просто избиратели.