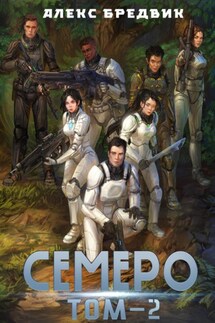«Корабль дураков», или Беседы с корифеями философии - страница 9
Посмотрим теперь, что сам Гегель думает о движении во времени. «Нечто движется не потому, что оно в одном «теперь» находится здесь, в другом «теперь» – там, но потому, что оно в одном и том же «теперь» (выделено нами. – В. С.) находится и здесь и не здесь…» Итак, не признавая за вещью, движущейся в пространстве, способности находиться в одном и том же «здесь», Гегель признаёт за вещью, движущейся во времени, способность находиться в одном и том же «теперь»; не признавая за вещью, движущейся в одной идеальной среде, находиться в одном и том же месте этой среды, он признаёт за вещью, движущейся в другой идеальной среде, способность находиться в одном и том же месте этой среды. Удивительная логика![4]
И вот эта-то «удивительная логика» послужила исходным пунктом и основанием предпринимавшихся в СССР в течение почти семидесяти лет попыток создания «высшей формы логики – диалектической». Попытки эти, как и следовало ожидать, закончились провалом, что ещё до сих пор не вполне осознано. К слову сказать, в западной философии такие попытки никогда не предпринимались.
Беседа вторая[5]. Второе знакомство с корифеями
Не знаю, можно ли причислить профессора Михаила Сергеевича Восленского к «корифеям». По образованию он был историк, не философ. Но марксизм в его официальном варианте знал хорошо (сам его преподавал) и принадлежал к истеблишменту. Ему были положены соответствующие привилегии, и был он выездным. Так что всё же он был скорее корифеем, чем не корифеем. Судьба свела меня с ним в 1967 году, два года спустя после моего несколько ошеломительного для меня самого переселения в Швецию. В Швеции и произошло моё знакомство с Восленским. Впрочем, не в буквальном смысле – просто я стал свидетелем одного забавного эпизода в его жизни. Об этом эпизоде не знает сегодня больше никто. Восленский умер, и умер второй свидетель этого эпизода – Ю. Чикарлеев.
1967 год. Швеция. Пагуошская конференция. Это значит: собираются учёные со всего мира и беседуют о мире во всём мире. Какой-то толк от таких бесед, надо полагать, был. Но только не для мира во всём мире. В любом случае толк был для тех наших учёных, которым таким образом удавалось побывать за границей. Так они получали возможность узнать, что такое капитализм на самом деле. И толк был для НТС: на такие конференции старались посылать своих людей. В 1967 были посланы мы с Юрием Чикарлеевым, который заслуженно имел славу лучшего распространителя «антисоветской литературы». Под рубрику «антисоветчик» тогда могли попасть и Платон, и Блаженный Августин, не говоря уже о Шопенгауэре и Ницше: они просто были зачислены в «фашисты».