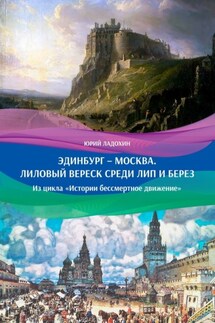Король идёт на Вы. Кофейная гуща - страница 6
Серые сумерки. Уже который год в моем сердце тоскливые серые сумерки. Иногда робкие вспышки молний озаряют его… озаряют и снова гаснут.
Я чувствую себя младенцем, который сидит на полу в пустой комнате и ждет, когда придет его мама. Зима и ночь, на полу разбросаны замечательные игрушки.
Если бы мама была здесь, я бы играл в них и был весел и счастлив. Но мамы нет. Она не приходит уже слишком долго.
Игрушки не радуют меня. Я пытаюсь забыться, катая по полу паровозик, но у меня ничего не получается.
Что это за вспышки молний, которые озаряют мое сердце.
Я иногда думаю, что был бы счастлив сгореть в одной из таких вспышек в момент, когда яростное безумие похоти охватывает меня. Когда я подхожу к своему алтарю…
Пятеро обступают меня. Мы начинаем наши игры, потому что знаем, что чувствуем примерно одно и то же.
Я стоял в полутемной комнате и смотрел на обнаженную, стоящую передо мной на коленях Анастасию. Она была так прекрасна. Как хорошо! «Совесть… – думал я. – Совесть… Что такое совесть? Она лишь усиливает страсть, как приправа усиливает вкус блюда. Что держит меня сейчас? Ничего. Так говорят нам… Мы одно. Личность – это иллюзия. С рождения нас сажают на цепь. Любить – нельзя. Ненавидеть – нельзя. Золотая середина».
Григорий Алексеевич висел над пропастью. Веревочка, которая удерживала его тяжелое боксерское тело, грозила в любую минуту оборваться. Тем не менее Григорий Алексеевич был спокоен и невозмутим. Его умное меланхоличное лицо не выражало ни страха, ни сожаления.
– Я прекрасно понимаю всю тяжесть положения, в котором я оказался, – сказал Григорий Алексеевич, глядя прямо в телекамеру. – Но мы не должны поступаться своими принципами ради сиюминутной выгоды.
Веревочка с резким щелчком оборвалась, но Григорий продолжал задумчиво висеть в воздухе, пренебрегая законом всемирного тяготения.
– Вот видите, – печально произнес Григорий Алексеевич, скромно отводя глаза от объектива. – Я не упаду, потому что в меня верят всякие интели. Я, как лидер демократической оппозиции, непотопляем и вечен.
Внезапно сверху на его голову посыпались мелкие камешки. Григорий Алексеевич задрал голову и посмотрел вверх. На край обрыва вышел высокий худой человек в черной маске. В одной руке он держал увеличительное стекло и пристально разглядывал сквозь него известного российского демократа. Другой руки у него не было.
– Григорий, – сказал однорукий, – А ты таки можешь сделать так, чтоб у меня выросла рука?
Григорий Алексеевич поморщился, оскорбленный фамильярным обращением таинственного незнакомца. Однако более чем фамильярностью он был оскорблен сомнением в его возможностях.
– Конечно, – ответил он неизвестному, – Пожалуйста. Считаю до пятисот. Вы считаете вместе со мной. Картавьте, как я, и завывайте. Запомните, что, когда я досчитаю до пятисот и у вас вырастет рука, вам придется в честь меня картавить до конца дней своих.
Григорий Алексеевич принялся считать. Неизвестный повторял. Чем ближе он подбирался к пятистам, тем сильнее картавил и завывал Григорий Алексеевич. Неизвестный картавил и завывал вместе с ним.
– Четыгеста девяносто пять… Четыгеста девяносто де-е-евять… Пятьсо-о-от!
С легким хлопком у неизвестного выросла вторая рука. Григорий Алексеевич удовлетворенно встряхнул бровями.
Неизвестный снял маску. Чудесным образом висящий над пропастью Григорий Алексеевич с ужасом уставился на его лицо. Не веря своим глазам, Григорий Алексеевич воскликнул: