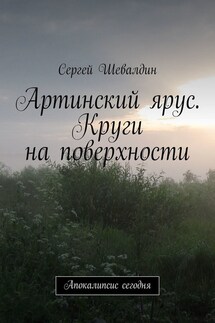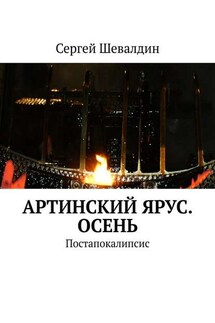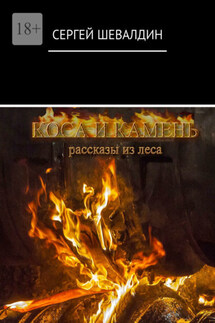Коса и камень - страница 9
Подольские машинки стоят у меня на веранде потому, что летом я перетащил их из кладовки, высвободив место для двух двухведерных стеклянных емкостей для создания самогонного сырья. Решил временно сократиться в объемах создания истинно народного напитка, потому и совершил перестановку. В столовую я эти машинки поставь ну никак не могу – там и без того лагушков, ларей, самоваров, сундуков и прочей винтажно-антикварной утвари достаточно, а придумать, куда б еще их пришпандорить, почему-то не получается. Плохо и убого у меня с фантазией: даже изрядную коллекцию пепельниц не смог живописно расквартировать. Потому что пепельница должна работать!
Подольские машинки для меня практически родная история. Дело в том, что в 1941 году на мою историческую родину, в Арти (это Средний Урал, если кто не знает) из Подольска эвакуировали игольное производство. Осенью демонтировали и привезли на станцию Красноуфимск, а оттуда в Арти на лошадях в санях перетащили. Вместе с оборудованием еще полтысячи человек в Артях расселили – специалистов и членов их семей. В декабре 1941 была выпущена первая артинская игла. До сих пор выпускают.
Иглы, конечно, попутно не оснащались подольскими швейными машинками. Но, сами понимаете, куда иголка, туда и нитка, а где нитка, там и машинка. Тем более что в советских семьях подобный агрегат всегда был не только символом достатка, но и надежным рабочим инструментом для получения дополнительного дохода. Достаточно процитировать Викторию Токареву, которая в годы войны как раз жила в Артях – так получилось. Вот строки из рассказа «Когда стало немножко теплее»: «Тетя Ася портниха. Она принимает заказы из соседних поселков и деревень, но берет за работу не деньгами, а продуктами, поэтому у них есть мед и масло. У дяди Леши больной позвоночник, поэтому его не берут на фронт и он живет со своей семьей. Мои родственники живут в каменном доме, когда все живут в деревянных, не воюют, когда идет война, и едят масло, когда все пухнут с голоду. Они никого не обманывают, но все-таки живут не так, как все. И за это я их не люблю». Таковы детские артинские впечатления писательницы. Есть в Артях некие местечковые особенности, чего уж говорить. Но главное точно – навыки портняжества несли в семьи прибыток. Иначе никак – по одежке, как известно, встречают.
Ремесло портного нынче не востребовано – китайская легкая индустрия все прорехи зашивает. Поэтому стрекот швейных машинок можно услышать лишь в жилищах пожилых людей. Когда они штаны внучкам укорачивают. Или в росказнях гламурных блогерш, которые, напившись смузи, про тенденции рассуждают.
В начале нынешнего века мне посчастливилось дружить с Николаем Новиковым, великолепным портным, мастером кожи и джинсы. Коля творил чудеса, несколько раз его за это пытались вытащить в Лондон. Там его талант требовался. Но все попытки удержать Колю в Великобритании заканчивались впустую – то с копом поругается, то еще что-то ему в голову взбредет, поэтому в державу возвращался. Считал себя гордым русско-народным националистом.
На родине надобности в Николае Новикове не было. Практически от слова вообще. Перебивался от заказа к заказу. Хотя заказы зачастую поступали от очень влиятельных и обеспеченных людей. Но на поток свой талант Коля поставить не смог, а, скорее, даже и не хотел. Зато все, что вышло из его рук, уникально и оригинально. Даже очень удобно – до сих пор ношу его куртку из джинсы под М65, штиблеты и ремни, жилеты и косоворотки.