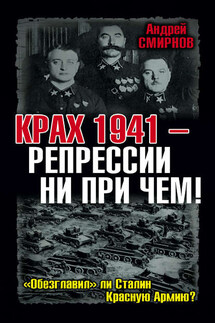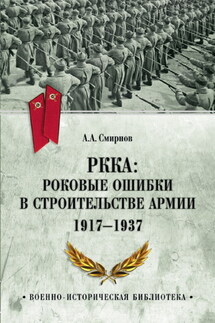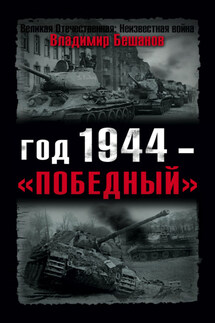Крах 1941 – репрессии ни при чем! «Обезглавил» ли Сталин Красную Армию? - страница 40
Характерное осенью 1937-го для командиров-танкистов БВО и ОКДВА слабое владение или недостаточное использование радиосвязи – без которой невозможно эффективное управление танковыми подразделениями, – также отмечалось у них и в 1935-м (когда как минимум в двух из трех мехбригад БВО – в 4-й и 5-й – радиоделом комсостав владел слабо или недостаточно, в 5 из 13 проверенных на этот счет танковых частей ОКДВА – на «неуд», а в остальных 8 – лишь удовлетворительно) и в 1936-м (когда апрельская проверка отделом связи БВО командиров танковых подразделений показала, что радиостанцию они «в основной массе еще не освоили», и когда годовой отчет ОКДВА от 30 сентября и тот признал, что на рации его командиры-танкисты работать умеют «слабо»)>132. Больше того, в «предрепрессионном» 1936-м с управлением при помощи радиосвязи у командиров-танкистов плохо было во всей Красной Армии! «Комбаты, комроты и комвзводы», указывал в своем докладе от 7 октября 1936 г. «О боевой подготовке РККА» М.Н. Тухачевский, «постоянно снимают наушники (радио) в боевой обстановке»…>133
Слабое владение комсостава командным языком, осенью 1937-го отмечавшееся в ПриВО и 20-м стрелковом корпусе ОКДВА, еще в последние «предрепрессионные» месяцы было характерно для всей РККА (командный язык, отмечалось в директивном письме А.И. Егорова от 27 июня 1937 г., у комсостава «нечеток»>134)…
«Слабое знание» комсоставом основ топографии, на которое осенью 1937-го жаловался комвойсками СКВО, еще летом 1936-го отмечалось даже в элитной, «ударной» 2-й стрелковой Белорусской Краснознаменной дивизии имени М.В. Фрунзе и в Приморской группе ОКДВА («наши кадры», подчеркивал в том году В.К. Блюхер, «особые»>135, но командиры, назначенные «таежными штурманами», которые поведут дивизии Примгруппы через девственные леса, не умели даже идти по азимуту…). А перед самым началом массовых репрессий – вообще во всей РККА («Топографическая подготовка комсостава», указывалось все в том же письме А.И. Егорова от 27 июня 1937 г., «еще слабая»>136). Мы видели, что осенью 1937-го комвойсками БВО критиковал своих командиров-танкистов за «топографическую немощь». Но в трех из четырех танковых соединений БВО, по которым сохранилась информация об уровне выучки комсостава в этом году (в 3-й, 4-й и 18-й мехбригадах), на слабое знание комсоставом топографии жаловались и в первой, «дорепрессионной» половине 1937-го!
Установленная нами для второй половины 1937-го слабая подготовленность штабов стрелковых батальонов вообще представляла собой одну из самых тяжелых проблем «предрепрессионной» РККА. С батальонными штабами, подытоживал, выступая 9 декабря 1935 г. на Военном совете М.Н. Тухачевский, «обстоит плохо, о чем говорили почти все»>137. При нынешней «слабой подготовке» большинства батальонных штабов, отмечалось в директиве наркома обороны № 400115с от 17 мая 1936 г., батальоны «с их штабами» летом могут «по-прежнему» оказаться «слабейшим звеном в системе боевой подготовки армии»>138. Штабы батальонов, констатировалось в директивном письме А.И. Егорова от 27 июня 1937 г., «как органы управления боем не сколачивались» и в начале 37-го…>139
То же и в тех округах, по которым мы судили о дееспособности штабов стрелковых батальонов РККА во второй половине 1937 г., – БВО и ОКДВА. То, что в БВО «слабы командиры батальонов, и особенно штабы батальонов», А.И. Седякин констатировал еще в своем докладе от 1 декабря 1935 г. «Об итогах боевой подготовки РККА за 1935 учебный год…»