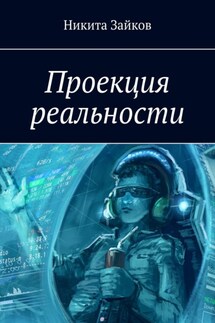Кризис психоанализа - страница 16
Эго-психология делает акцент на рациональных аспектах адаптации, научения, воли и т. д. (ее традиционное отношение – игнорировать тот факт, что современный человек страдает от неспособности по своей воле определять свое будущее и что «научение» часто делает его скорее еще более слепым). Это, конечно, вполне законное и важное поле исследований, где такие ученые, как Ж. Пиаже, Л. С. Выготский, К. Бюлер и многие другие, достигли выдающихся успехов, с которыми едва ли могут сравниться достижения Эго-психологов. Последние «подняли» психоанализ до уровня академической респектабельности, говоря: «мы тоже» знаем, что либидо – это еще не все, что есть в человеке. Делая так, они исправили некоторые преувеличения в психоаналитической теории, но многие их идеи новы только для тех, кто верил, будто теория либидо может объяснить все что угодно.
Эго-психология не только начала свой пересмотр с изучения психологии адаптации, она сама является психологией адаптации психоанализа к социальной науке XX столетия и к преобладающему духу западного общества. Искать убежище в конформизме – очень понятно в век тревоги и массового конформизма; однако это не только не приводит к прогрессу в психоаналитической теории, но является отступлением. На самом деле Эго-психология лишает психоанализ той энергии, которая когда-то сделала его таким влиятельным фактором в современной культуре.
Возникает вопрос: если мои рассуждения верны, почему лидеры психоаналитического движения не исключили Эго-психологов из своих рядов, как они сделали это с другими «ревизионистами»? Вместо этого, напротив, Эго-психология стала ведущей школой в психоаналитическом движении – этот факт нашел символическое выражение в том, что Гейнц Хартман в 1951 году был избран президентом Международной психоаналитической ассоциации.
Ответ на этот вопрос имеет два аспекта. С одной стороны, Эго-психологи стремились подтвердить свою легитимность, подчеркивая свою принадлежность к «истинным» фрейдистам. С другой стороны, представляется, что они удовлетворяли общее желание бюрократов от психоанализа адаптироваться и стать респектабельными. Знания и блестящие способности Эго-психологов явно стали подарком движению, которое утратило свою «цель», пренебрегло продуктивным развитием Ид-психологии, искало признания в области теории и не желало тревожиться из-за некритического использования устаревших идей и терапевтических приемов. Эго-психология была идеальным ответом на кризис психоанализа – идеальным для тех, кто отказался от надежды на радикальный, продуктивный пересмотр, который вернул бы психоанализу его прежнюю мощь.
Следует, впрочем, заметить, что существуют исключения из этого благосклонного отношения к Эго-анализу со стороны ортодоксального большинства. С. Нахт, один из самых выдающихся ортодоксальных аналитиков, выступил с критикой Эго-психологии, весьма сходной с приведенной мной выше. На симпозиуме «Взаимное влияние Эго и Ид на их развитие» Нахт говорил: «Попытка поднять психоанализ до высот общей психологии, что Хартман, Одье, де Соссюр и другие хотели бы сделать, представляется мне по меньшей мере бесплодным и регрессивным шагом, если это направлено на изменение нашей методологии»[18]. Хотя я во многом расхожусь с Нахтом, я разделяю его убеждение в том, что школа Эго-психологии делает шаг назад от сути психоанализа.