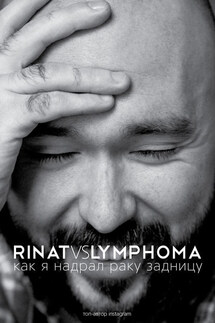Крошеная эстетика. Спектр - страница 4
Каждый вдох и выдох в отдельности требуют труда, придающего кинетическую энергию лёгким, по определению оплетённым унынием бытия под личиной вымышленных правил существования, просочившихся в сердце всякого, кто ещё не решился его прекратить, исчерпав своё право на забвение.
Каждая мысль, стрелой пущенная в центр познания, задевая струны изголодавшейся души, стремится обернуться вспять со светом одной из истин в острие и пронзить вопрошающую человеческую сущность насквозь, отвратив от лишних движений уставшего тела: ещё полных надежды трепыханий пойманного сердца и судорожных сокращений заходящихся в извечных рыданиях лёгких.
Каждое желание стремится к своему завершению, чтобы потухнуть, смешавшись с дорожной пылью: останками пустых честолюбивых стремлений, что, словно бенгальские огни, бесплодно прогорев, гаснут в глазах смотрящего. И в то же время дикое стремление жить толкает затёкшие плечи вперёд, навстречу непосильной для человека борьбе с суетой, страхом и ленью, подобно вирусам, поражающим тела новорождённых в первые секунды их существования, завершающим новую ячейку братской могилы для человека в момент его появления на свет, отравляющим всякую радость, пожирающим действие ещё в форме мотива и сгорающим в редком пламени безумного желания жить. Гореть во спасение—вот единственный выход, доступный человеку, если он только способен зародить в себе огонь.
Гореть—единственный путь преодоления, увенчанный тёрном протяжённого в вечности финала: единственный способ отречься от права на забвение, единственное спасение дрейфующего самосознания, единственный шанс быть и остаться…
Будущее будто заперлось в прохладном осколке солнечного утра на краю первых дней октября.
Я наивно полагал, что оно возьмёт на себя гнёт обязательств перед целями, взгромоздит на спины несущих время ветров вес моего еретического сомнения в их направлении, скроет от немого укора упущенных мгновений, отразит удар расцветающих последствий, подставит щеку моей ладони из прошлого, несколько облегчив груз на затёкших плечах—и одновременно сам должен был нести его в сухих ладонях, где уже пульсировал свежестью ранней зимы воскресный рассвет, полный упоительного одиночества…
Обманчиво-нежные, предательски-яркие лучи солнца на закате марта, едва ощутимо касаясь кожи, светом стекали по моим щекам, вечерней прохладой собирались в уголках губ, а после искрами, вместе с пеплом, исчезали на сером шарфе. Месяц стремительно таял в ладонях, обагряя руки чувством вины, и испарялся в пурпурные сумерки грядущего апреля. В уши ветром бился коварный шум июньской листвы, эхом донося гром не сбывшихся надежд, а за ним неотступно следовал зловещий август, своей огромной тенью омрачая распахнутую, залитую наивно-широким сиянием линию горизонта.
Я ломал ногти, разбивал колени и локти, стачивал зубы в попытках удержаться на сухом и чистом мартовском асфальте. Я стремился остановить время, продлить мгновения безопасной неопределённости, насытив их счастливыми сомнениями, скрыться от подступавшей к горлу реальности, застыть в одной из её форм, но…
Март уходил из-под ног…
В беспредельном холоде сиреневого майского неба, высота которого отдавала ароматом вишни, слышался переплетавшийся с движением дыма шорох тихо опадающих взбитых сливок, а под ним, огромной тенью на ночных облаках плыло вслед за мечтами моё одиночество…