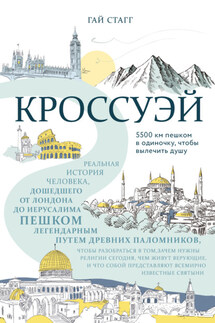Кроссуэй. Реальная история человека, дошедшего до Иерусалима пешком легендарным путем древних паломников, чтобы вылечить душу - страница 14
Когда Филипп прервал свое паломничество, Бернар отправил письмо епископу Линкольна, в котором объяснил, что случилось. Он шутил, что каноник достиг конца пути быстрее, чем ожидалось: «Он вошел в Град Божий <…> Это и есть Иерусалим».
Аббат заимствовал свой аргумент у блаженного Августина, который относился к паломничеству двояко. С одной стороны, Августин рассматривал жизнь как духовное путешествие. Его «Исповедь» полна картин изгнания и возвращения в родной дом, а «Град Божий» ясно утверждает, что человек – странник в этом мире и обретет покой, только вернувшись на небеса. Но при этом Августин считал, что мы приближаемся к божественному не ногами, а сердцем, и к Богу нас ведет поклонение, а не скитания.
В аббатстве Клерво в поклонении проводили каждый миг. Поклонением было все – не только время, проведенное в церкви, за учением или в молитве, но и рубка дров, распахивание полей, чистка, штопка, стройка… Даже монашеская аскеза была формой преданности и устремляла все их желания к божественным материям. Бернар писал, что при помощи постоянной дисциплины он освободил свою душу – liberavi animam meam, – но эту свободу даровала покорность, а не сила.
Петр Кропоткин видел в отказе от своей воли вечное заточение. Бернар – свободу от оков. По его учению, монах мог увидеть Град Божий, даже не выходя за ограду монастыря. Это и есть Иерусалим. Именно поэтому Данте отвел аббату роль последнего проводника в «Божественной комедии»: именно Бернар вел странника-поэта по высшим сферам рая. И потому юный Филипп, придя в Клерво, уже больше никуда не ушел.
Скорее всего, я проникся этой идеей, ибо сам находился в пути. Я шел по восемь часов в день, шесть дней в неделю, спал там, где предлагали ночлег, и почти не покидал Дорогу франков. Да, погода была настоящим испытанием. Но той ночью в тюремной гостинице я вдруг почувствовал, что моя жизнь стала светлее. Я словно отдал кому-то власть над течением моих дней, и теперь дорога сама несла меня сквозь зиму.
Наутро снег перестал.
Монахини начали день со службы в капелле – маленьком чулане сбоку от гостевой. Пока сестры читали молитвы, Ева лязгала посудой на кухне, бранилась и роняла вещи.
МОНАСТЫРЬ – ЭТО ТЕМНИЦА, – УТВЕРЖДАЛ БЕРНАР КЛЕРВОСКИЙ, – НО ЕЕ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ, А БРАТЬЕВ УДЕРЖИВАЕТ ВНУТРИ ОДНА ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ К ГОСПОДУ.
Когда мы вышли из капеллы, в гостевой царил сущий бардак. На столе стояли тарелки с объедками, в раковине лежала груда грязных кастрюль, весь буфет был засыпан крупой, а на полу валялись шмотки из чемодана: безрукавки из Майами, брендовые штаны-трико, лифчики и кипа ярко-розовых носков. Посреди комнаты, откинув голову, сидела Ева, и то ли вопила, то ли скулила. Отчего? А бог его знает. Может, сломался чемодан. Или подгорела еда. Или болела нога. Или соскучилась по сыну. Я уже не понимал, кто тут свободен, кто скован, кто связан узами любви. Но там, в дверях, меня захлестнула волна сострадания, как будто эти трое были одной семьей.
– Нет, ну каждый раз! – Мари-Бертилль переступила через раскиданную одежду. – Вот недели не проходит!
– Ева, мы все решили, – Анна-Кристина, скрестив руки, стояла в дверях. – Ты больше не можешь оставаться. – Хныкающие всхлипы превратились в рыдания, и Анна зажала руками уши. – Если нужны деньги, мы заплатим за билет. – Плач прекратился. – Но это в последний раз. Пожалуйста… ну пусть это будет последний…