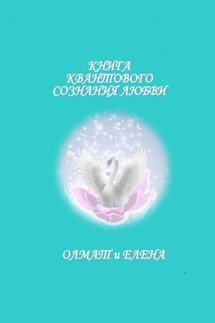Круги компенсации. Экономический рост и глобализация Японии - страница 13
Утверждается, что круги компенсации также помогли определить реакцию Японии на глобализацию, несмотря на то что они формировали внутренние модели роста, хотя в этих двух случаях главенствующие места занимали разные круги. Круги в сфере транспорта, сельского хозяйства и коммуникаций напрямую работали над изоляцией Японии от мира и, таким образом, непосредственно сдерживали и откладывали ее реакцию на глобализацию. Круги в финансовой сфере, включая систему сопровождения МФ, также замедлили, но более косвенно, реакцию японских банков, страховых и фондовых компаний. После того как в начале 1990-х годов лопнул финансовый пузырь, нежелание банков давать кредиты усилило рецессию и дефляцию. Несговорчивость и нерешительность, порожденные кругами, открыли возможности для иностранных инвесторов, воспользовавшихся управляемыми внутренними рынками, которые местные игроки пытались сохранить, и спровоцировавшими этим рыночную нестабильность.
В этой книге делается вывод, что круги компенсации настолько встроены в большинство рассмотренных секторов японской экономики структурно, что ликвидировать их в краткосрочной и среднесрочной перспективе нереально. Более продуктивным представляется пошаговый подход – расширение кругов с тем, чтобы они охватывали новые группы, включая иностранцев; возрождение банков, которые часто стоят в центре ключевых кругов; и прекращение гендерной дискриминации. Утверждается, что изучение лучших мировых практик, с особым упором на глобально ориентированные европейские и азиатские страны со схожими с японскими коммунитарными традициями, может вдохновить на дальнейшие продуктивные реформы в самой Японии.
Выводы
С тех пор как в 1853 году черные корабли (黒船, курофунэ) коммодора Мэтью Перри впервые бросили якоря у японских берегов[30], политико-экономическая система Японии пережила необычайные перепады производительности и поразительные колебания даже после нефтяных кризисов 1970-х годов. Судьба этой страны переплелась со многими силами, определяющими и формирующими наш мир, включая войны, промышленное развитие и глобализацию. Во взаимодействии с этими историческими глобальными силами политико-экономические показатели Японии представляют собой бесчисленное множество эмпирических загадок. Эти загадки служат прекрасным сырьем для построения теории как в сравнительной, так и в международной политической экономии.
Несмотря на те возможности для построения общественно-научной теории, которые предоставляет японская государственная политика со всеми ее парадоксальными аспектами, японистами сделано удивительно мало для того, чтобы этими возможностями воспользоваться [Calder 1998: 336–353]. Самые заметные исключения – концепции «государства развития» Чалмерса Джонсона, «корпоративизм без труда» Т. Дж. Пемпела и «политический рынок» Рамзайера – Розенблат. Очевидно, что остается простор для более японоцентричного анализа, который, принимая во внимание углубляющиеся отношения, существующие между внутренней системой Японии на микроуровне и более широким внешним миром, внес бы более увесистый вклад в теорию общественных наук.
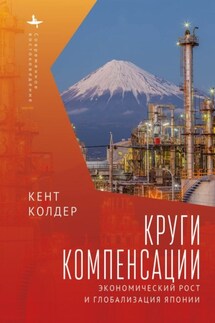

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)