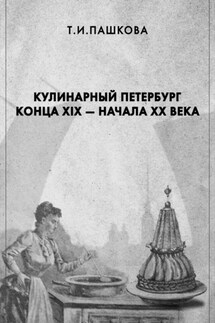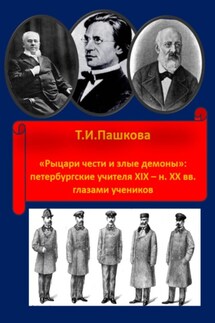Кулинарный Петербург конца XIX – начала XX века - страница 42
Из коровьего масла вкуснее всего было приготовленное в мае, майское. Масло часто подкрашивали морковным соком для придания ему привлекательного цвета, особенно когда к нему примешивали сало, поскольку от этого оно становилось бледным. Так называемое «французское» масло в хороших ресторанах почти все состояло из сала, перемешанного более тщательно и искусно, иначе говоря, представляло собой маргарин. Иногда в масло добавляли тёртый варёный картофель. Русское (топлёное) масло часто бывало прогорклым из-за плохого топления. Городские власти пытались регулировать торговлю маргарином, категорически запрещая называть его маслом, требуя, чтобы на лавках, им торгующим, была соответствующая надпись, а сам продукт хранился в кадках или другой посуде, обязательно выкрашенной в красный цвет.
Русские и польские кухарки, в отличие от шведок и немок, были весьма пристрастны к использованию русского масла, которое, будучи чуть дешевле чухонского (приготовленного из сметаны), имело отвратительное свойство страшно чадить и дымить. Однако оно лучше хранилось и было «не капризно»: на нем можно было оставить жаркое и сбегать к воротам или в лавочку.
Русское масло использовалось исключительно для жарки: жаркого, блинов и т.д. Его можно было заменить нутряным говяжьим жиром. Помимо кухонного масла (использовалось только для жарки) были и другие сорта: столовое (мызное), сливочное, французское и фритюр. Столовое (из сметаны) шло на приготовление пюре, омлеты, пудинги, на бутерброды. Сливочное масло употреблялось для лакомства за завтраком, обедом, с чаем. Фритюром называли растопленные остатки разного масла с говяжьим жиром. Им при жарке заменяли чухонское кухонное масло. К началу XX века оно постепенно вышло из употребления из-за недобросовестности продавцов. В 1900-м году столичные газеты писали о все более частых случаях фальсификации русского коровьего масла. Петербургские продавцы обвиняли в этом москвичей, снабжавших столичные и другие рынки маслом с примесью 50% топлёного сала. Торговцы даже обратились в Департамент земледелия с коллективным ходатайством о принятии мер.
Что касается русского сыра, производившегося в разных губерниях, то он долгое время употреблялся под названием «мещерского». К концу века его место занял русско-швейцарский сыр разных оттенков. Этот сыр подражал швейцарскому, французскому, английскому, голландскому и итальянскому сырам. Использовался в основном для приготовления разных блюд, сорта этого сыра попроще употреблялись прислугой. На завтраки использовался недурной польский сыр из Виленской губернии, сыр из овечьего молока, привозившийся из северо-западных губерний, имевший сходство с пармезаном. Специалисты в кулинарном деле утверждали, что русские сыры часто подделывали под заграничные сорта. При производстве в сыры могли подмешивать муку, крахмал, минеральные соли.
Все молочные продукты в Петербурге продавались в лавках, не имевших молочной специализации, или в мелочных лавках. На «молочных складах», «молочных фермах» и «сливочных лавках» можно было увидеть яйца, сардины, крупы, соль, макароны и даже стеариновые свечи. В зеленных лавках помимо овощей могли торговать молоком, сливками, творогом, копчёной и солёной рыбой, живностью и дичью. В результате сливочное масло соседствовало с чесночной колбасой или треской, что не могло не отражаться на его качестве. Поэтому хозяйкам советовали покупать молочные продукты в специализированных лавках, которых, правда, в столице было очень мало. Большинство обывателей покупало молоко сомнительного качества на мелких молочных фермах или в лавках, а также довольствовалось привозным товаром из деревень, приносившихся чухонками или охтянками прямо на дом.