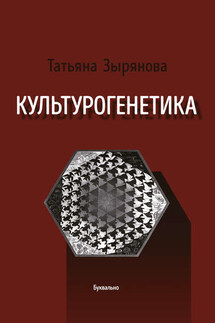Культурогенетика - страница 37
Искусственные, спроектированные, рационализированные нормы замещают в западной культуре XX века ранее существовавшие регуляторы менталитета, работавшие как неподвластные человеку естественные нормы и мотивы. Например, писаные правовые нормы на Западе практически полностью подменили мораль. Но ведь еще Кант отметил, что в моральной сфере есть нечто, неподвластное людскому разуму, и его невозможно ограничить сиюминутными соображениями практичности. Говоря системным языком, это – надсистемные регуляторы, находящиеся выше уровня личности и общества (например, Бог). Из культуры Нового времени по мере ее рационализации они постепенно изживались. А там, где это невозможно было сделать, искусственно блокировались.
Для обеспечения социальной устойчивости в «проектном» обществе XX века понадобилось множество компенсаторов, и они все более и более рационализировались. Понимая это, Дьюи поставил данный процесс в американском обществе «на поток», но так же поступили и другие рационалистические проектировщики «общественных машин»: Сталин, Гитлер, Муссолини и др. То, что сделали они, резко отличалось от западного демократического варианта в единственном – в целеполагании. Это – наиболее важный момент всего XX века: если деятельность можно эффективно технологизировать, то формулируемые цели могут принадлежать разным субъектам: и личности (как предполагали создатели западных демократий), и отдельным группам (например, партиям) и большим сообществам (например, религиозным). Русские космисты впервые заговорили о целях человечества, и сегодня именно они дают ориентир, способный повлиять на будущее и изменить ход истории.
Теперь вернемся к главному, ради чего, собственно, эта тема и была затронута. Цели человека в проектном подходе, в прагматизме Дьюи и в инструментализме его последователей не обсуждаются – из них исходят. Данный момент и порождает расхождение в инструментальном понимании культуры как набора регламентирующих норм деятельности: регламентация – процесс искусственный, но откуда берутся цели?
Мотивационную основу деятельности установили в коллективной (групповой) психологии и в социологии групп. Первыми обратили на нее внимание: Э. Дюркгейм (коллективные установки) [108], В. Бехтерев (групповые мотивы поведения) [38], К. Юнг (архетипы коллективного бессознательного) [319; 416]. Тому же посвящены психология народов [63] и историческая психология [404]. Развернувшиеся на этой основе «ментальные исследования» [3–5; 15–16; 22; 63; 72; 74; 81; 106; 293; 309; 368; 375; 383; 400; 404] блестяще решали проблемы реконструкции культуры прошлого и определения движущих мотивов деятельности людей прошлого. Но подобная постановка вопроса в отношении настоящего и будущего требует построения обществоведческой теории, из которой можно было бы получить прогноз. Большинство же ментальных исследований ограничивается герменевтикой, являющейся стержнем экзистенциализма и постмодернизма, выступающей там в качестве метода [404].
Однако достижение понимания и построение детерминант и прогнозов – разные продукты. Для инструментализма этот подход вообще излишен: прогнозы детерминируют то, что можно спроектировать волевым образом. А теории А. Тоффлера [371–374] и других исследователей [212–213; 270; 287; 397; 391] дополняют эту однолинейность глобальными прогнозами на основе единственной линии развития – технологической по основаниям и технократической по ориентации.