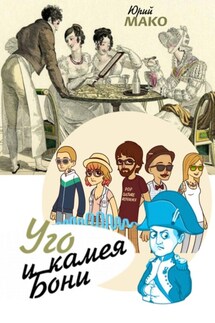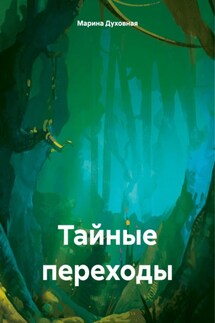Курмахама - страница 83
Надо сказать, что в советские времена в провинциальном городе достать импортные одежду и обувь можно было лишь с большим трудом. И далеко не каждый мог позволить себе их купить. По-настоящему хорошие вещи чаще всего даже не доходили до прилавков –расходились среди тех, кто имел отношение к торговле, чтобы или носить самим, или подарить друзьям-знакомым, или с наценкой продать с рук. Этим занимались так называемые фарцовщики. На прилавки же попадало только то, что не имело большого спроса, например, очень маленькие или очень большие размеры.
Если же, на счастье серпчан, поступала большая партия импортного товара, настолько крупная, чтобы хватило удовлетворить спрос большого количества покупателей, то такие вещи появлялись в магазине. Об этом тотчас узнавал весь город, и за считанные минуты в магазин выстраивалась километровая очередь. Разумеется, купить что-то удавалось далеко не всем, завоз всегда был ограничен. Поэтому самые хитрые, чтобы отхватить что-либо ценное, взяли за привычку заходить в магазины по несколько раз на дню.
Постепенно привычка караулить дефицитный товар приобрела такие размеры, что многие серпчане выстраивались в очередь, даже когда дефицитные шмотки ещё даже не появились в магазине. В надежде быть первыми, если их всё же привезут и «выкинут» в продажу, как это тогда называлось. После подобных «выбросов» в свежекупленных куртках или туфлях начинал щеголять весь Серпск. Но вещи, в которые был одет Павел, в городе нельзя было увидеть более ни на ком.
Как и прочие серпчане, учителя с первого класса, отдавали должное семейству Розенблатов, и сквозь пальцы смотрели на частое отсутствию Павла на занятиях. Хотя в снисходительности Розенблат никогда не нуждался. Математика, русский язык, физика, химия– похоже, не было в школе предмета, который бы ему не давался. Причём, в любую новую тему Розенблат вникал стремительно, как будто бы знал её ещё до начала объяснений. Когда остальные ученики класса в недоумении только таращились на доску или с бестолковым видом тщетно пытались переварить сказанное учителем, Павел уже сидел с безмятежным видом и на все вопросы отвечал без запинки. Ну, а в формулах, схемах, законах и теоремах он всегда ориентировался свободно и легко, как в трёх соснах.
«Как же несправедливо устроено всё в этом мире, – частенько не без зависти рассуждала про себя Елена, исподтишка разглядывая великолепного Павла, когда ещё не прожила свою «главбухскую» жизнь, – кому-то всё, и внешность, и ум, и успешная, талантливая мама, а кому-то кругляшок от дырки… Дырка, это точно про меня. Что называется, ни рожи, ни кожи, эх!..»
И вот, этот самый Павел Розенблат, как и тогда, бесконечное число лет назад, в десятом классе сел за парту Елены.
«Ну, уж нет, дорогой мой, в этот раз ничего у тебя не получится, – подумала Елена, снова украдкой изучая греческий профиль красавца-соседа, – можешь сколько угодно распушать свой хвост павлиний, я тебе не курица, голову не потеряю. И вообще, на одни и те же грабли только дураки наступают. А я не дура!»
Невзирая на эти разумные, рациональные доводы, внизу живота у неё всё сладко заныло, а сердце затрепетало в груди. Просто от того, что Павел сейчас сидел с ней рядом. Но как бы ни ныло, ни трепетало внутри, Елена знала – она никогда не выйдет замуж за Павла. В худшем случае пофлиртует немного, но стать его женой – уж точно нет. Это дуракам надо несколько раз повторять, чтобы запомнили, а она, наученная горьким опытом, поняла с первого раза. И Елена стала вспоминать историю своего первого замужества.