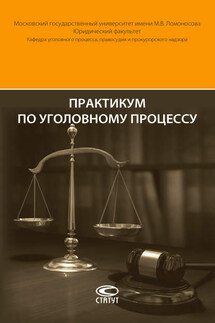Курс уголовного процесса - страница 103
4. В стадии судебного разбирательства постсоветские законодатели в большинстве своем так пока и не смогли окончательно решить, придерживаются ли они континентальной доктрины «активного судьи» или англосаксонской доктрины «пассивного судьи». Последний вариант является на постсоветском пространстве достаточно «модным», однако неизбежно сталкивается с социальными проблемами – освобождение суда от обязанности по своей инициативе устанавливать все обстоятельства дела приводит к крайне негативным последствиям для огромной массы населения, не имеющей возможности оплатить помощь квалифицированного и заинтересованного защитника и оказывающейся в результате едва ли не беззащитной перед обвинением. Это, видимо, и является причиной «колебаний» постсоветского законодателя, разрушающего адекватную континентальную модель «активного судьи» и видящего тщетность попыток создания на ее месте эффективной системы «пассивного судьи».
Но при таких «колебаниях» немыслимо правильно решить ни проблему возвращения дела на дополнительное расследование, ни проблему процессуальных последствий отказа прокурора от обвинения, ни многие другие проблемы, возникающие в ходе судебного разбирательства. Удач здесь пока немного.
5. Среди несомненных тенденций нельзя не отметить также попытки внедрения в постсоветский уголовный процесс разного рода «сделок о признании» или «сделок с правосудием» англо-американского типа. Впрочем, здесь далеко не все просто, поскольку процессуальная природа таких институтов и их место в уголовно-процессуальной системе полностью зависят от избранной модели процесса: «активный судья» или «пассивный судья». В первом случае любые соглашения между обвинением и защитой могут иметь лишь локальный характер, будучи основанием ускорения процесса по некоторым делам, т.е. одним из особых производств ограниченного применения. Во втором случае «сделки» представляют собой центральный элемент уголовно-процессуальной идеологии и применяются по всем делам без исключения, покоясь не только на признании вины, но и на запрете для суда рассматривать любое уголовное дело, где нет спора сторон, пусть даже на чаше весов лежит пожизненное лишение свободы. Можно предположить, что вектор развития постсоветского уголовного процесса ляжет в первом направлении, хотя грузинский опыт, который еще предстоит изучать и который на данном этапе является скорее негативным (резкое и беспрецедентное увеличение обвинительных приговоров и тюремного населения), говорит об ином. Но в любом случае «сделки» не могут являться неким абсолютно автономным институтом или явлением – они лишь элемент, чья функциональная нагрузка зависит от общей конструкции уголовно-процессуального механизма.
6. Наконец, постсоветский уголовный процесс пока еще находится в процессе поиска логичной и адекватной инстанционной системы пересмотра приговоров. Общий вектор развития направлен на восстановление классических подходов, унаследованных от Судебных уставов 1864 г. и отчасти утраченных в советский период. В одних странах законодателю это почти удалось (прибалтийские государства, Молдавия, Армения). В других – допущены и продолжают допускаться явные институциональные ошибки (Украина, Россия, Казахстан