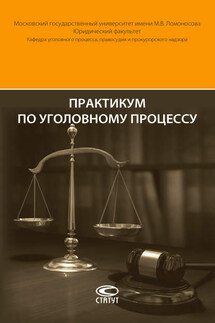Курс уголовного процесса - страница 77
Впрочем, основная проблема развития советского уголовного процесса заключалась отнюдь не в УПК 1923 г., а в массовом пренебрежении им в ходе сталинских репрессий и появлении различных форм чрезвычайного уголовно-процессуального законодательства, предполагавшего даже в некоторых случаях рассмотрение дел несудебными органами. Характерными примерами являются Постановление ЦИК от 1 декабря 1934 г., принятое через несколько часов после убийства в Ленинграде видного советского руководителя С.М. Кирова, в соответствии с которым по делам о террористических организациях и актах срок предварительного следствия сокращался до 10 дней, обвинительное заключение вручалось обвиняемому за одни сутки до рассмотрения дела в суде, участие обвинителя и защитника в судебном разбирательстве, а также кассационное обжалование приговора не допускались, или Закон от 14 сентября 1937 г., запретивший кассационное обжалование приговоров и сокративший до одних суток срок вручения копии обвинительного заключения также по делам о контрреволюционных вредительствах и диверсиях.
В этот период советское уголовно-процессуальное право существовало в двух параллельных реальностях: одна из них регулировалась УПК 1923 г., применявшимся по общеуголовным преступлениям, а другая – разнообразными уголовно-процессуальными актами чрезвычайного характера, действовавшими по тем уголовным делам, где, с точки зрения власти, имела место политическая составляющая. В подобной ситуации УПК 1923 г. не выполнял и не мог выполнять роль подлинной уголовно-процессуальной кодификации. Уголовно-процессуальное право в значительной мере оказалось некодифицированным и подчинялось многочисленным особым режимам по отдельным категориям уголовных дел.
В таком контексте становится понятной основная задача второй советской кодификации уголовно-процессуального права, проводившейся после смерти И.В. Сталина и разоблачения культа его личности ХХ съездом Коммунистической партии (1956 г.) на волне общей десталинизации советской общественно-политической жизни. Необходимо было добиться реальной кодификации уголовно-процессуального права и устранения самой возможности действия каких-либо уголовно-процессуальных законов вне УПК с тем, чтобы по всем уголовным делам применялась единая процессуальная форма с соответствующими гарантиями прав личности. В целом эту задачу удалось успешно реализовать.
Вслед за принятием Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г.179 начинается разработка нового УПК РСФСР, принятого 27 октября 1960 г. и вступившего в силу с 1 января 1961 г.
УПК РСФСР 1960 г. предусматривает единую процессуальную форму и единый состав суда (судья и два народных заседателя) при рассмотрении всех уголовных дел, независимо от степени их тяжести, закрепляет в ст. 20 обязанность всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела (принцип объективной истины) и настаивает на том, что признание обвиняемым своей вины является рядовым доказательством, не приводящим ни к упрощению, ни к ускорению уголовного процесса в целом и судебного разбирательства в частности. Появляются новые полноправные участники уголовного процесса – подозреваемый (наряду с традиционным обвиняемым) и потерпевший, чьи статус и права очень четко урегулированы законом.
Кодекс окончательно институционализирует стадию возбуждения уголовного дела, требуя не просто приступать к расследованию при наличии признаков преступления, но выносить специальное постановление о возбуждении уголовного дела по итогам доследственной проверки, чтобы избежать необоснованных уголовных преследований в духе 1930-х годов. Предварительное расследование проводится в форме дознания или предварительного следствия, что по сути является единственным проявлением дифференциации процессуальной формы и приводит к почти полному исчезновению различий между ними. Обвиняемый получает право на участие защитника с момента окончания предварительного расследования, т.е. предоставления ему материалов дела для ознакомления. После поступления дела в суд производство открывается полноценной стадией предания суду путем проведения в некоторых случаях коллегиального (опять-таки в составе судьи и двух народных заседателей) распорядительного заседания с возможностью вернуть дело на дополнительное расследование. Судебное разбирательство проводится по единой форме с активной ролью суда, но без обязательного участия обвинителя, т.е. доказывание осуществляют не столько стороны, сколько суд. Кассация остается единственной формой обжалования приговора, не вступившего в законную силу, а после его вступления в законную силу пересмотр возможен в порядке надзора (по протестам высших должностных лиц прокурорской и судебной системы) и по вновь открывшимся обстоятельствам.