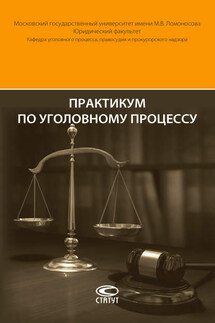Курс уголовного процесса - страница 89
С содержательной стороны основная линия ведущихся сегодня в уголовно-процессуальной науке дискуссий является продолжением споров вокруг оптимальной модели российского уголовного процесса и магистрального пути его дальнейшего развития, характеризовавших период разработки действующего УПК РФ, о чем уже говорилось, и не утихающих по сей день. В самом общем виде можно сказать, что в современной отечественной науке уголовного процесса сложилось два направления.
Представители первого из них являются сторонниками развития российского уголовного процесса в русле континентальных традиций, сложившихся в России еще в дореволюционный период и характерных для классического уголовного судопроизводства романогерманской семьи (Франция, Германия, Швейцария и т.п.). Данное направление отличается более умеренным отношением к советскому уголовно-процессуальному наследию, в частности УПК 1960 г., не столько из-за политических пристрастий, сколько в силу того, что советский уголовный процесс, невзирая на существенные деформации, сохранил континентальную инфраструктуру судопроизводства и основные присущие ей институты. Сторонники континентальных ценностей выступают за построение уголовного процесса на основе принципа материальной истины, в соответствии с которым дознаватель, следователь и прокурор в досудебных стадиях не являются сторонами, будучи обязаны вести производство по уголовному делу всесторонне полно и объективно, а суд в ходе судебного разбирательства остается активен, имея право самостоятельно собирать доказательства. Именно принцип материальной истины является своего рода символическим кодом данного научного направления или его квинтэссенцией, определяющей подходы к решению многих более локальных процессуальных проблем.
Представители второго направления вольно или невольно являются сторонниками смены парадигмы развития российского уголовного процесса с отказом от континентальных ценностей и заимствованием чисто состязательной уголовно-процессуальной идеологии, характерной для англосаксонской процессуальной семьи (Англии, США и др.). В таком контексте наиболее жесткой критике подвергается советский уголовный процесс (УПК 1960 г.), причем опять-таки не столько из политических соображений, сколько в силу его приверженности процессуальным конструкциям смешанной формы судопроизводства. Не меньшей критике подвергается и принцип материальной истины, характерный для дореволюционного, советского и западного континентального уголовного процесса. На его место ставится принцип состязательности, который должен пронизывать не только судебные, но и досудебные стадии уголовного процесса, превращая следователя (дознавателя) и прокурора в сторону обвинения, с которой состязается сторона защиты (обвиняемый и его адвокаты). Для сторонников данного направления суд должен быть пассивен, бесстрастно наблюдая за противоборством сторон и не имея права самостоятельно собирать доказательства. Здесь уже символическим кодом или квинтэссенцией становится принцип состязательности в его абсолютном понимании, в свою очередь определяющий подходы к решению конкретных процессуальных проблем.
В еще более общем плане можно сказать, что подчас речь идет даже не столько о техническом противостоянии сторонников «истины» и сторонников «состязательности», сколько об отражении в уголовно-процессуальной науке глобальной политико-экономической дискуссии между представителями социально ориентированного (консервативного) крыла, настаивающего на определяющей роли государства в регулировании общественных отношений, и представителями индивидуалистического (либерального) крыла, убежденного в необходимости минимизации роли государства как социально-экономического регулятора.