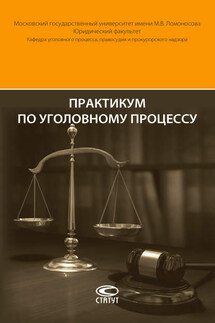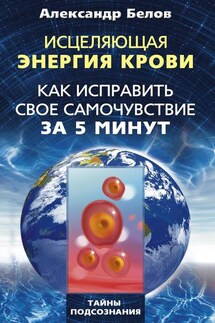Курс уголовного процесса - страница 99
Поэтому после провозглашения политической независимости в связи с распадом СССР новые постсоветские страны столкнулись с необходимостью решать в уголовно-процессуальном плане две основные и взаимосвязанные задачи: 1) по созданию национальных уголовно-процессуальных систем, разработке и принятию новых УПК, которые являлись бы уже не УПК «союзных республик», а УПК новых независимых государств; 2) по очищению уголовного процесса от советских идеологических «наслоений» и наиболее одиозных институтов. Однако решение данных задач, обусловившее последующее развитие каждой постсоветской уголовно-процессуальной системы, проходило уже разновекторно и разными темпами с учетом географического положения, политических задач, состояния уголовно-процессуальной доктрины и т.п. соответствующих стран. Нельзя сбрасывать со счета и далеко не одинаковый международный контекст, в котором оказались постсоветские государства, что, в частности, проявилось в разной степени интенсивности зависимости их уголовно-процессуальной эволюции от потенциального членства в европейских организациях (Совет Европы и Евросоюз), а также заинтересованности в соответствующих реформах со стороны международных организаций (ООН, ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ) и крупнейших иностранных держав, прежде всего США. В этом смысле сейчас уже можно говорить о нескольких вариантах развития постсоветского уголовного процесса, проявившихся в тех или иных странах (группах стран).
Прибалтийские государства (Латвия, Литва, Эстония) не стали сразу приступать к разработке новых уголовно-процессуальных кодификаций, на первом этапе лишь ограничившись внесением срочных «десоветизирующих» изменений в свои «старые» УПК советского происхождения. Не требовал от них принятия новых УПК и Совет Европы, куда они вступили в 1993–1995 гг. Здесь стратегия была направлена на неизбежное вхождение в Европейский Союз и создание не переходных, но окончательных постсоветских уголовно-процессуальных кодификаций, направленных на приведение уголовно-процессуального законодательства в соответствие с высокими стандартами Евросоюза и разрабатывавшихся при непосредственном участии европейских экспертов, прежде всего из Германии. Так, Литва приняла новый УПК в 2002 г., Эстония – в 2003 г., а Латвия – в 2005 г. При этом, невзирая на относительно позднее появление в прибалтийских государствах новых УПК, речь шла не об отставании в развитии, а напротив, об опережающем развитии, свидетельством чему явилась тщательность работ, сопровождавших уголовно-процессуальные кодификации, и отсутствие кодексов «переходного этапа». С точки зрения стратегии уголовно-процессуального развития, к прибалтийским государствам отчасти примыкает Молдавия (Молдова), чьи шансы на вступление в Евросоюз не выглядят полностью иллюзорными. Эта страна также вступила в Совет Европы (1995 г.) со «старым» УПК, ограничившись внесением в него в 1990-е годы необходимых изменений. Она также приняла новый УПК лишь в 2003 г., причем опять-таки при активном участии европейских экспертов, в данном случае прежде всего из Франции и иных романских государств.
Несколько иначе проходило уголовно-процессуальное развитие в закавказских республиках бывшего СССР (Азербайджан, Армения, Грузия). В силу того, что данные государства не рассматривались в качестве серьезных кандидатов на вхождение в Евросоюз, принятие новых УПК стало одним из условий их приема в члены Совета Европы, т.е. именно данная международная организация осуществляла своего рода «европейский контроль» за закавказскими уголовно-процессуальными реформами. Так, Грузия и Армения приняли новые УПК в 1998 г., вступив затем в Совет Европы соответственно в 1999 и 2001 гг. Азербайджан принял новый УПК в 2000 г., что открыло ему дорогу в Совет Европы в 2001 г., куда он был принят одновременно с Арменией, по политическим причинам вынужденной дожидаться появления азербайджанского кодекса. Однако на тот момент к новым закавказским УПК никто не предъявлял в Европе завышенных требований – важен был сам факт их принятия, в силу чего эти кодексы были разработаны с участием не только европейских, но и российских экспертов. Более того, они не только учитывали достижения советской уголовно-процессуальной теории, но и в значительной мере базировались на Модельном УПК для стран СНГ, принятом Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ 17 февраля 1996 г. Поэтому, с точки зрения западных дипломатических кругов и международных организаций, речь в данном случае могла идти лишь о «кодексах первой волны» или, иначе говоря, неких УПК переходного периода. Долгая жизнь им уготована не была, за исключением, быть может, УПК Азербайджана 2000 г., который более или менее стабилен. Что касается Грузии и Армении, то разработка новых уголовно-процессуальных кодификаций (УПК «второй волны») началась там буквально через несколько лет после принятия в 1998 г. первых национальных кодексов этих стран. Характерно, что к работе над новыми УПК подключились не столько даже европейские, сколько американские эксперты. В особенности это коснулось Грузии, где в 2009 г. был принят новый УПК, почти полностью воспроизводящий американскую модель уголовного процесса со всеми ее атрибутами и институтами (сделки о признании, суд присяжных, автономия полиции, прокурорская дискреция при осуществлении уголовного преследования и т.п.). В Армении также началась работа над новым УПК, причем центр тяжести деятельности по «международному контролю» за его разработкой перешел с Совета Европы на БДИПЧ ОБСЕ, что, как правило, свидетельствует о большей международной включенности США. При этом немалую активность проявил также Евросоюз, поставивший принятие нового УПК в качестве условия партнерских отношений с Арменией. Однако работа над проектом нового УПК оказалась несколько сложнее, чем представлялось вначале, прежде всего в силу нежелания многих армянских специалистов, задействованных в ней, полностью отказываться от континентальных ценностей и следовать в этом смысле примеру Грузии.