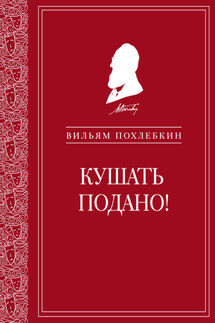Кушать подано! Репертуар кушаний и напитков в русской классической драматургии - страница 11
После Пугачевского восстания, столь убедительно обнаружившего непрочность и эфемерность «золотого века» Екатерины, особенно быстро поблекла та черта дворянского театра, которая считалась до тех пор главной и чуть ли не единственной – его «развлекательность», его «театральность», декоративность, помпезность. Все это вмиг пожухло, показалось ходульным, наивным на фоне суровой реальности Пугачевского восстания. Необходимо было вернуть театру его притягательность, теснее связав его с реальной жизнью.
Но сделать это в условиях XVIII века было далеко не так-то просто. Неясны были пути. И вовсе не таким простым оказался даже вопрос о механическом введении в театральные постановки кое-каких жизненных бытовизмов, приближающих сцену к реальной жизни. Причем как раз последним в ряду бытовизмов, а вовсе не первым, как можно сейчас подумать, был кулинарный антураж, о котором почти все драматурги XVIII века прочно забывали.
Если учесть, что сам по себе репертуар русского театра XVIII столетия был иностранным или полуиностранным, то есть представлял собой полуперевод-полупереработку иностранных пьес, что сами ситуации драматургических произведений были далеки от русской действительности и что, наконец, сами авторы оригинальных русских пьес были людьми, принадлежащими чаще всего к высшему кругу (достаточно назвать саму Екатерину II, княгиню Е.Р. Дашкову, генерал-майора И. Болтина, директора Московского университета М.М. Хераскова, князя А.А. Шаховского), то станет вполне понятно, что в их высокопарных произведениях никакой «кухни», никакого кулинарного антуража просто не могло появиться уже в силу того, что эти авторы просто психологически не могли снизойти до столь низких материй. Такие корифеи тогдашней драматургии, как А.П. Сумароков, Н.И. Хмельницкий, В.А. Озеров, А.О. Аблесимов, А.А. Шаховской, не допускали кулинарный антураж не только в драму и трагедию, но и пренебрегали им также в комедиях и водевилях.
Дело в том, что, согласно театрально-условной традиции, стрелы театральной сатиры и насмешки могли направляться лишь на подьячих и щеголей (на последних – независимо от сословия), и эта социально-профессиональная заданность и заостренность практически исключала необходимость для драматурга обращаться ко всему тому, что не работало на «схему насмешки» над щеголем или подьячим, то есть ко всему тому, что не касалось внешнего вида указанных персонажей (одежды, обуви, прически, манер, особенностей языка и поведения).
Следовательно, еде, питью, пищевой и кулинарной лексике в таких произведениях не было места.
Типичными названиями даже так называемых русских жанровых пьес «русских драматургов» середины – третьей четверти XVIII века были: «Чудаки», «Хвастун», «Ненавистник», «Безбожник», «Лихоимец», «Мот, любовью исправленный», «Пустомеля», «Наказанная ветреность». В них ясно и совершенно прямолинейно выставлено одно какое-либо человеческое качество, которое демонстрировалось, осмеивалось, осуждалось и наказывалось. В этом, собственно, и состояло все содержание театрального действа. Качества эти могли, конечно, приписываться в русской аудитории русским (например, лихоимец, пустомеля), но, в сущности, были вовсе не национальными, а общечеловеческими, в силу чего на подобной тематике подлинно русская национальная бытовая комедия не могла возникнуть и получить развитие. Попытки «русифицировать» общечеловеческие, нравственно-заостренные драматургические произведения путем переименования места действия (вместо Парижа – Петербург, вместо Лиона – Москва) и действующих лиц (замена Клодины на Агафью и Тимандра на Евграфа), разумеется, были настолько наивны и беспомощны, что не могли внести никакого существенного оживления, придать национальный характер русской драматургии, и их авторы – эти пионеры русификации русской драмы – оказались забыты даже в истории театра, а не только в его репертуаре. Не могло внести существенных перемен в дело создания русской бытовой комедии и решительное изменение самой лексики действующих лиц и подчас весьма смелое введение в нее не только простонародных, но и площадных, далеких от литературного языка той эпохи слов и выражений.