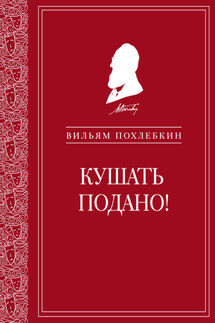Кушать подано! Репертуар кушаний и напитков в русской классической драматургии - страница 8
Для русского сознания, для русского искусства, и в том числе для русского народного театра, подобное направление было изначально чуждо. В силу целого ряда исторических причин в русском народном скоморошьем театре и в скоморошьих действах, приходящихся на ту же самую эпоху, что и фастнахшпили и комедия дель арте (XVI–XVII века), такие пороки, как обжорство и прожорливость, были абсолютно неактуальны в качестве объектов осмеяния и общественного осуждения. В России того времени существовали совершенно иные «язвы общества», на которые стоило обращать внимание и критика которых обеспечивала скоморохам народное сочувствие, а тем самым пропитание, поддержку и, если нужно, защиту и укрытие.
Вот почему даже самая примитивная народная комедия, самый примитивный народный театр – как кукольный (вертепный и петрушечный), так и актерский (скомороший) – главным объектом своих насмешек на протяжении веков делал социальные условия и бытующие распространенные социальные типы: ярыжку-городового, монаха и попа-расстригу, а также дурачка-петрушку – этот собирательный образ простого народа, третируемого всеми, но в конце концов находящего тот или иной остроумный способ отомстить своим недругам.
Социальная направленность, социальная заданность литературно-обличительного и театрально-комедийного (всегда сатирического!) искусства весьма рано стала основным направлением в русской общественной культуре и была, как мы видели выше, по существу, унаследована и той рафинированной дворянской классической литературой XIX века, которая, казалось бы, совершенно не была генетически связана с русским народным средневековьем.
Не прямая связь, а исторические обстоятельства диктовали эту преемственность, она формировалась условиями, в которых веками пребывало русское общество, а не тем или иным происхождением, воспитанием или образовательным уровнем художника, писателя, драматурга.
Вот почему абсолютно понятно, логично и естественно с исторической точки зрения, что кулинарная тематика, как нечто «неважное», «несущественное», «мелкое», «незначительное», оказалась генетически далекой, не присущей ни русскому народному искусству, в том числе народному театру, ни русской литературе, ни русской драматургии в целом. Они всегда старались заниматься большими, значительными, общественными, гражданскими, социальными вопросами – политикой. А если обобщить и сказать лаконичнее, то активную сознательную часть русского общества всегда интересовали вопросы чистые, высокие, идейные, а не низменные и мелкие, конкретные. И в этом была опять-таки виновата не особая «русская психология», а особая русская социально-экономическая и политическая история, особые русские исторические условия. Жизнь была тяжелой и несправедливой, а потому театр, как место общественное и высокое, должен был непременно как-то ее критиковать, чтобы приобрести народную (зрительскую) любовь, сочувствие и тем самым престиж и притягательность.
Такова была глубокая социально-экономическая первопричина отсутствия на русских народных ярмарочных театральных подмостках, а затем и на русской театральной сцене вообще какого-либо интереса к показу гастрономического, кулинарного действа. Русский зритель его бы не понял и не принял. Зачем? Что оно может сообщить ему? Даже для самого простого человека это воспринималось бы как нечто недостойное театра.